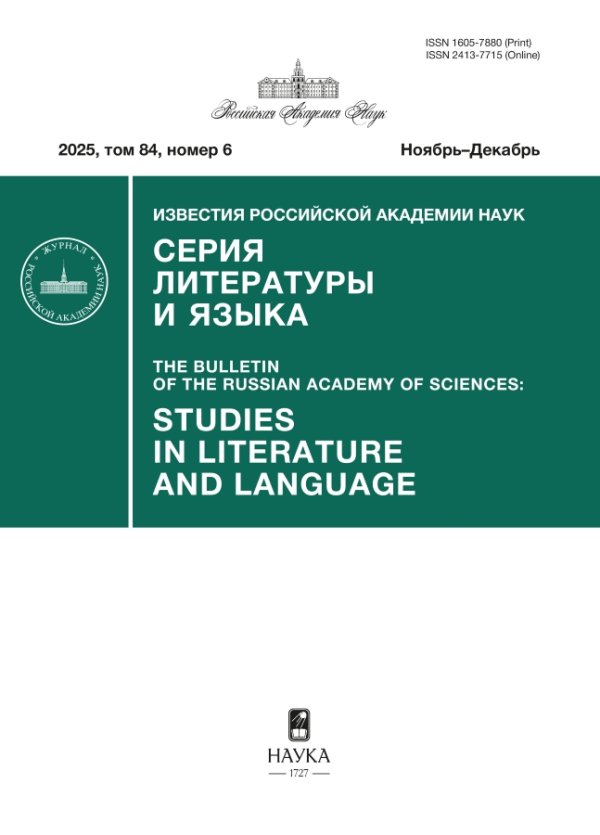Особенности номинации лиц в описаниях Москвы начала XIX века (на материале статей Н. М. Карамзина в журнале «Вестник Европы»)
- Авторы: Савельев В.С.1, Ли В.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 83, № 5 (2024)
- Страницы: 103-112
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/1605-7880/article/view/272036
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024050099
- ID: 272036
Полный текст
Аннотация
В работе определяются особенности номинации лиц в статьях о Москве Н.М. Карамзина, опубликованных в журнале «Вестник Европы» в 1802–1803 гг. Устанавливается, что на выбор лексем оказывает влияние тематика статей, временная отнесенность объекта описания и его характеристика, связанная с реализацией концепта «свой» vs. «чужой». В статьях регулярно используются агентивные существительные различного семантического типа, при этом употребление некоторых из них с точки зрения функциональной отличается от современного. Для текстов Н.М. Карамзина характерно регулярное использование согласованных определений, детализирующих выражаемые значения и в ряде случаев употребляемых как субстантиваты, а также собирательных существительных, называющих сословные социальные группы. Устанавливается, что основные отличия от современного словоупотребления касаются использования архаизмов, историзмов, а также употребления лексем в значениях, не свойственных им с точки зрения современного носителя языка. Определяются принципы дистрибуции строчных и прописных букв, используемых Н.М. Карамзиным при именовании лиц: прописные буквы употребляются в случае принадлежности слов определенным лексико-семантическим группам (лексемы, указывающие национальную принадлежность, подданство, вероисповедание и др.), а также при выражении видовых лексических значений.
Ключевые слова
Полный текст
Основным объектом изучения филологии являются тексты – письменные речевые произведения, посвященные самым различным темам. Вполне очевидно, что своеобразие текстов разных «типов», их отличительные признаки определяются множеством факторов, к которым, в частности, относится их тематика. Именно тематическое родство позволило филологам выделить группу городских текстов – текстов, в которых обнаруживается описание городов.
Одним из аспектов исследования языковых средств, при помощи которых создаются городские тексты, является изучение лексики, которая используется для описания их предметного мира. Вполне естественно, что при этом в первую очередь рассматриваются природные объекты и городские артефакты. Однако город – это не только предметы, которые определяют особенности городского ландшафта, но и люди, его населяющие.
Именованиям лиц в лингвистике последних десятилетий посвящено значительное количество работ. В ряде из них способы номинации людей рассматриваются в диахроническом аспекте. При этом объектом исследования могут быть как именования лиц, входящих в отдельные социальные группы [1], так и лексемы, называющие человека безотносительно его принадлежности к определенному социуму; в последнем случае внимание исследователей сосредоточено на деривационных характеристиках слов [2].
Крайне важным для изучения лексики, называющей человека, является выделение лексико-семантических групп, объединяющих именования лиц на основании определенного параметра. Подробные классификации слов, относящихся к данному семантическому полю, обнаруживаются как в специализированных исследованиях [3], так и в идеографических словарях [4, с. 59–395].
Большой интерес в отношении изучения особенностей номинации лиц представляют тексты, рассказывающие о прошлом города: благодаря их исследованию можно установить, как менялся социальный состав городского населения. Именно к таким текстам относятся статьи Николая Михайловича Карамзина, напечатанные в 1802–1803 гг. в журнале «Вестник Европы» и посвященные истории и современной жизни Москвы 1. Примечательно, что статьи Н.М. Карамзина рассказывают о Москве двух эпох – времени царствования Алексея Михайловича (сер. XVII в.) и рубеже XVIII и XIX вв. Какие социальные группы привлекают внимание автора? Каковы способы номинации, используемые им?
Прежде всего необходимо отметить, что в статьях Н.М. Карамзина последовательно реализуется концепт «свой» vs. «чужой» – один из основных концептов русской культуры 2, при этом повествование отражает точку зрения москвича; весьма показательно, что одна из статей называется «Записки стараго московскаго жителя» [6]: в этой и других статьях автор-москвич рассказывает истории о московской жизни 3 читателю-москвичу, «отправляя» его в те или иные места Москвы и Подмосковья 4. При этом достаточно часто автор использует слово мы, объединяющее автора и его читателей-москвичей: «14 Октября, въ исходѣ втораго часа по полудни, мы чувствовали легкое землетрясеніе» [10, с. 69] 5, «Густой и непрерывный туманъ, который у насъ до сего дня, продолжается» [10, с. 72], «Иногда думаю, гдѣ быть у насъ гульбищу, достойному столицы – и не нахожу ничего лучше берега Москвы-рѣки» [6, с. 284] и т.п.
Примечательно, что Н.М. Карамзин не использует слова москвитянин, московит и москвич (встречающиеся в разных текстах XVIII века; см. [11, с. 40]), но регулярно употребляет словосочетания Московскіе жители ([7, с. 214]; [8, с. 279]; [12, с. 100] и др.) и – реже – Московский народъ и граждане Московскіе 6, причем последние два только в статьях, посвященных истории Москвы ([7, с. 213]; [14, с. 143, 144]; [14, с. 125, 126] и др.). Также для обозначения москвичей используется метонимия Москва («<...> какъ будто бы тогдашняя Москва еще мало страдала, видя Князя своего въ безчестномъ плѣну» [10, с. 71]).
Для обозначения не-москвичей употребляются два ряда общих именований:
а) если речь идет о людях, не живущих в Москве и не имеющих к ней отношения, употребляется словосочетание, построенное по модели жители + + Род. падеж хоронима или ойконима: «жители <…> Нижняго Новагорода» [7, с. 226], «Вообразимъ жителей острововъ Антильскихъ» [10, с. 71], «житель Парижа или Берлина» [6, с. 285];
б) если речь идет о людях, по той или иной причине посещающих Москву, в большинстве случаев отмечается, что они не являются россиянами, – используются слова иностранецъ [14, с. 125, 133], чужестранецъ [15, с. 264], субстантиват чужестранный («<…> никто не смѣлъ оскорблять чужестранныхъ» [12, с. 99]) и словосочетание иностранный путешественникъ («Я увѣренъ, что всякой иностранной путешественникъ съ удовольствіемъ взглянетъ на сіе дѣло общественной пользы» [7, с. 213]). Использование определения в последнем случае мотивировано тем, что в качестве путешественника может выступать и сам автор-москвич («Наблюденія вашего путешественника не очень важны: что дѣлать? Москва не Римъ» [8, с. 279]).
Еще один способ назвать путешественника, который использует автор, – словосочетание дорожный человекъ («<…> продавали еще множество сухарей дорожнымъ людямъ» [15, с. 267]); этот актуальный во времена Н.М. Карамзина способ номинации («Дорожный <…> 1) В дороге находящийся. Дорожный человек» [16, с. 733]) в XX веке оценивается словарями как устаревший («Дорожный <…> 3) Находящийся в пути, в дороге (обл. и устар.). Дорожные люди» [17, с. 776]).
Обращаясь к теме «иностранцы в Москве», Н.М. Карамзин описывает отношения не только иностранцев и москвичей в частности, но и иностранцев и россиян в целом. Говоря об иностранцах, автор часто указывает их национальную принадлежность или иноземное подданство: упоминаются голландцы («Голландскій Фельдшеръ» [15, с. 268]), голштинцы («Голштинецъ Петръ Марселлисъ» [6, с. 280]), датчане («Датскій Принцъ» [15, с. 270]), нарвцы («Нарвскій Пасторъ» [15, с. 269]), немцы («1000 человѣкъ Нѣмцовъ» [12, с. 97]), татары («Рускія женщины переняли ѣздить верхомъ у Татарокъ» [15, с. 260]), французы («Французскій дворянинъ де-Гронъ» [12, с. 102]).
Что касается россиян, то Н.М. Карамзин подчеркивает, что они являются подданными русского государя («Государь не имѣлъ нужды доказывать ее подданнымъ» [7, с. 214]) и гражданами 7 своего государства («Народъ Рускій <...> кажется, всегда чувствовалъ <...> что своевольная управа гражданъ есть во всякомъ случаѣ великое бѣдствіе для государства» [14, с. 120]).
Осознание себя русскими свойственно москвичам и подтверждается как иностранцами, отмечающими русские особенности московского уклада («Олеарій и другіе чужестранные Писатели говорятъ, что одно Руское ухо могло сносить страшной звонъ Московскихъ колоколовъ» [15, с. 252, 253], «Описывая тишину благочестія, наблюдаемую Рускими въ церквахъ, Олеарій прибавляетъ, что Московскіе жители и на улицахъ безпрестанно молятся» [15, с. 253]), так и самими москвичами, и прежде всего – автором-москвичом («Я, какъ Руской и дворянинъ, <...>» [8, с. 282], «<...> теперь вездѣ нахожу общество! Однимъ словомъ, Рускіе уже чувствуютъ красоту природы» [6, с. 281, 282]).
***
Анализ лексем, используемых Н.М. Карамзиным для именования людей, показывает, что при описании различных сфер социальной жизни москвичей и не-москвичей выбор номинации в большинстве случаев определяется принадлежностью объекта определенной эпохе и оценкой того, является ли он «своим» или «чужим».
Верховные правители, монархи, престолонаследники [8]
В статьях, посвященных истории Москвы, используются слова Царь [7, с. 208] и Императоръ [15, с. 253] и – в качестве синонимов к ним – Государь [7, с. 209] и Монархъ [14, с. 126]. Упоминаются родственники верховного правителя – Царица [7, с. 208], Царевна [7, с. 208], иноземные монархи и их родственники – Король [7, с. 224], Ханъ [8, с. 284], Шахъ [8, с. 287], Принцъ [15, с. 270], в том числе посещавшие Москву («Когда Датскій Принцъ, женихъ любезной Ксеніи, занемогъ въ Москвѣ <…>» [15, с. 270]).
В статьях, посвященных Москве XIX века, верховные правители не упоминаются. Примечательно, что при этом Н.М. Карамзин регулярно использует слово государь, но только в качестве обращения к читателям («Вы можете засмѣяться, государи мои; но <…>» [6, с. 283]).
По сословному положению, по состоянию личного господства или зависимости
В Москве XVII века, по словам Н.М. Карамзина, живут Князья [7, с. 223], Бояре [14, с. 130], Духовенство [15, с. 253], Дѣти Боярскіе (Сыны Боярскіе) [15, с. 257], дворяне [14, с. 124], купцы [14, с. 123], мѣщане [15, с. 257], граждане 9 («Милославскій <...> началъ также давать обѣды знаменитѣйшимъ изъ купцовъ и гражданъ» [14, с. 138]) и рабы («Всякая изъ нихъ сажала въ ногахъ своихъ молодую рабу» [15, с. 263]). Обращает на себя внимание использование собирательных существительных, называющих отдельные сословия: помимо слова Духовенство, используются лексемы купечество [14, с. 123], мѣщанство [15, с. 257] и гражданство («Государь <...> сказалъ купечеству и гражданству, что <...>» [14, с. 139]). Достаточно часто в статьях встречаются перечислительные ряды, объединяющие представителей разных сословий. Так, упоминается, что во времена Алексея Михайловича в Китай-городе жили «купцы, нѣкоторые Князья Московскіе и дворяне» [15, с. 255].
Для именования представителей привилегированных слоев общества используются слова господа [15, с. 258] и знатные [6, с. 280], для низших сословий – народъ [14, с. 128], простые люди [15, с. 262], незнатные [14, с. 133, 134] и оценочное чернь («<...> чернь съ жадностію бросилась въ казенные погреба» [14, с. 137]). В некоторых случаях описываются ситуации, объединяющие всех москвичей («Всѣ знатные и незнатные любили сего именитаго Боярина» [14, с. 133, 134], «Рускіе обѣдали въ старину часу въ одиннадцатомъ утра, и тотчасъ ложились отдыхать, какъ знатные, такъ и простые люди» [15, с. 262]).
В XVII веке Москву посещали титулованные иноземные гости – Графъ Шликъ [12, с. 101], Баронъ Петръ Ремонъ [12, с. 102]. Интересно, что некоторые из них принимали христианство и становились российскими подданными, претерпевая при этом изменения в титуловании: «Графъ Шликъ, взятый ко Двору, назвался Княземъ Львомъ Александровичемъ Шлыкомъ или Шлаковскимъ» [12, с. 101].
Также в Москву XVII века приезжали гости, или, как поясняет Н.М. Карамзин, купцы («Въ немъ жили тогда всѣ богатѣйшіе гости или купцы <…>» [15, с. 255, 256]), – данное значение фиксирует и «Словарь Академии Российской»: «Гость <…> 2) В старин. употр.: Купец приезжий» ([16, с. 276]).
Говоря о Москве XIX века, Н.М. Карамзин упоминает духовныхъ [18, с. 263], дворянъ (Дворянство) [19, с. 58]; [18, с. 266], купцовъ [18, с. 263], мѣщанъ [19, с. 58] и подмосковных крестьянъ [8, с. 285]. Представители привилегированных слоев общества именуются словами благородные, знатные, низшие сословия – словами народъ, незнатные, при этом они могут упоминаться в одном контексте при описании события, объединяющего всех москвичей («<…> гдѣ знатные не стыдятся гулять вмѣстѣ съ не-знатными <...>» [6, с. 283], «Спектакль для благородныхъ, разныя забавы для народа и потѣшные огни для всѣхъ <...>» [8, с. 279]). С той же целью используются описательные номинации смѣсь разныхъ состояніи («Гдѣ граждане любятъ собираться ежедневно въ пріятной свободѣ и смѣси разныхъ состояніи» [6, с. 283]) и люди всякаго званія («Любитель просвѣщенія съ душевнымъ удовольствіемъ видитъ тамъ <…> людей всякаго званія» [18, с. 263]).
Также следует обратить внимание на то, что в статьях о современной ему Москве Н.М. Карамзин использует слово господинъ, но исключительно в качестве обращения («Господинъ! господинъ! Не надобно ли вамъ цвѣтовъ?» [6, с. 278]), при именовании персон (Господинъ Новиковъ [19, с. 57], Господинъ Шлецеръ [18, с. 266]) или группы лиц (Господа Московскіе Профессоры [18, с. 264]). Слово Дама употребляется при упоминании женщин, принадлежащих высшим слоям общества (знатныя Московскія Дамы [18, с. 263]).
По отношению к направлению, течению в религии, по вероисповеданию
Москвичи XVII века описываются как люди набожные [15, с. 252, 253]. Местные жители являются православными [12, с. 98], в отличие от иностранцев, живущих в Москве, среди которых обнаруживаются Католики [12, с. 99], Лютеране [12, с. 96] и Реформаты [12, с. 99], определяемые как иновѣрцы [12, с. 98]. Православные москвичи являются прихожанами церквей [14, с. 138], службу в которых отправляют Священники [12, с. 97], наставляемые Патріархомъ [14, с. 138]; на московских улицах можно увидеть монаховъ [14, с. 137]. Из иностранных священнослужителей Н.М. Карамзиным упоминается Нарвскій Пасторъ Мартинъ Беръ [15, с. 269]. Что касается религиозной жизни Москвы XIX века, то Н.М. Карамзин о ней не говорит, упоминая лишь «Пасторовъ здѣшнихъ Лютеранскихъ церквей» [12, с. 100].
В большинстве случаев именование лиц у Н.М. Карамзина связано с указанием их профессиональной деятельности.
Должностные, официальные лица, чиновники, служащие
В статьях используются два общих обозначения для лиц при дворе русского царя XVII века – вельможа [7, с. 209] и царедворецъ [14, с. 141], а также специализированные номинации – Дворецкій [14, с. 133] и Окольничій [14, с. 124]. Общие обозначения должностных лиц того времени – слова дьякъ 10 [15, с. 268], подъячій [15, с. 257] и чиновникъ [14, с. 127], специализированные – Думный Дьякъ [14, с. 123], Дьякъ иностранныхъ дѣлъ [15, с. 268], судья уголовный [14, с. 136] и палачь [14, с. 136]. Иные номинации используются для обозначения иностранных чиновников, посещавших Москву, – Посолъ [15, с. 253], Секретарь Посольства [9, с. 126] и Министръ 11 [15, с. 258].
Описывая Москву XIX века, Н.М. Карамзин о царедворцах и должностных лицах не говорит, употребляя лишь слово Министръ [18, с. 263] в привычном для нас значении.
В военной, военизированной сферах деятельности
Говоря о военных XVI–XVIII вв., Н.М. Карамзин именуют их по тому, к какому «роду войск» они относятся, – Опричные [14, с. 120] и Стрѣльцы [7, с. 223], называя последних также оценочно-собирательным существительным гвардія («Царь угощалъ въ Кремлѣ всю свою гвардію (То есть, Стрѣльцовъ*)» [14, с. 138]). Намного чаще используются обозначения, отражающие принадлежность «воинским категориям и званиям», и во всех случаях говорится об иностранных воинах, нанятых на службу московскому царю, – упоминаются иностранные солдаты [15, с. 257], солдаты Нѣмецкіе [12, с. 96], офицеры иностранные [14, с. 133], Нѣмецкіе Офицеры [12, с. 97], Полковникъ Леслей [12, с. 102], Генералъ Бауеръ [7, с. 213]. Также используется собирательное существительное войско, называющее как русских воинов (войско [7, с. 226], Руское войско [8, с. 284]), так и иностранных наемников (войско иностранное [14, с. 133]).
Что касается Москвы XIX века, то в статьях о военной жизни города не говорится, а потому не упоминаются и военные.
В хозяйственной, экономической сферах деятельности
В Москве XVII века трудятся различные работники [14, с. 125], ремесленники [15, с. 257] и мастеровые люди [15, с. 266]. Особо упоминаются хлѣбники [15, с. 257], ямщики [14, с. 136], «работники торговли» – продавцы [15, с. 256] и сидѣльцы 12 [15, с. 262]. В домах своих господ работают слуги [14, с. 130] и служанки [15, с. 262], а в подмосковных имениях бояр за порядком следят ключники [15, с. 267].
В статьях о Москве XIX века встречаются те же общие обозначения трудящихся, что и в статьях об истории Москвы – работники [10, с. 70] и ремесленники [6, с. 281], однако список лиц по профессиям существенно отличается: упоминаются портные [6, с. 281], сапожники [6, с. 281], пирожники [19, с. 58], книгопродавцы [19, с. 60].
В сфере медицины
Упоминания работников медицины обнаруживаются исключительно в статьях о Москве XVII века, в которых встречаются слова врачь [15, с. 270], Докторъ [12, с. 94], лекарь [15, с. 270], Медикъ [15, с. 270], Голландскій Фельдшеръ [15, с. 268], называющие иностранных специалистов. Примечателен при этом комментарий Н.М. Карамзина, говорящего о врачевании в старой Москве: «Но только Дворъ и Бояре, говоритъ Маржеретъ, прибѣгали къ иностраннымъ врачамъ: всѣ другіе Московскіе жители не вѣрятъ ихъ искусству и лечатся по своему; а именно, виномъ съ растертымъ порохомъ или чеснокомъ: что, вмѣстѣ съ жаркою банею, служитъ для нихъ лекарствомъ во всѣхъ болѣзняхъ» [15, с. 270, 271].
В сфере науки и просвещения
В статьях о Москве XVII века упоминается живший в городе немецкий Астрономъ [15, с. 268].
В XIX веке въ Московскомъ Университетѣ трудятся ученые Мужи [18, с. 267] – российские и иностранные Профессоры [18, с. 267], лекции которых посещают студенты Заиконоспаской Академіи [18, с. 263]. В домах состоятельных москвичей воспитанием детей занимаются иностранные учители [18, с. 267].
В сфере искусства и творчества
Среди специалистов, работавших в Москве XVII века, упоминаются российский Архитекторъ [15, с. 256] и иностранные художники [15, с. 267]. Также упоминаются чужecтpанные Автоpы [15, с. 251], чужестранные Писатели [15, с. 252], посещавшие Москву и наряду с нашими лѣтописцами [7, с. 209], Рускими Писателями [14, с. 120] оставившие ее описания. Слово Писатель употребляется Н.М. Карамзиным и по отношению к современникам-соотечественникам [8, с. 285], а словом Авторъ он называет самого себя [14, с. 135].
По интеллектуально-эмоциональному отношению к кому-чему-н., по восприятию кого-чего-н.
Н.М. Карамзин описывает москвичей XIX века, называя их увлечения: используются качественные имена – любители (Исторіи [7, с. 213], отечественной славы [7, с. 207], просвѣщенія [18, с. 263], учености [18, с. 266], чтенія [19, с. 57]) и охотники («Торгаши <…> нынѣ ѣздятъ они съ ученымъ товаромъ, и <…> желая прельстить охотниковъ, разсказываютъ содержаніе романовъ и комедій» [19, с. 59]).
По врожденному или приобретенному интеллектуальному или интеллектуально-эмоционально-физическому свойству, качеству
Н.М. Карамзин обращает внимание на качества некоторых москвичей XVII века (праздные люди «На Красной Площади съ утра до вечера толпилось множество людей праздныхъ» [15, с. 256]) и XIX века (безграмотные «Самые безграмотные желаютъ знать, что пишутъ изъ чужихъ земель!» [19, с. 58]).
По социально-экономическому положению, по отношению к собственности, к средствам существования
Важной характеристикой москвича является его состоятельность: регулярно упоминаются богатые (XVII век: [14, с. 124]; XIX век: [6, с. 281]), небогатые (XVII век: [14, с. 124]; XIX век: [8, с. 281]), бѣдные (XVII век: [14, с. 123]; XVIII век: [7, с. 213]; XIX век: [19, с. 58]) и нищие (XVII век: [15, с. 267]). Характерно, что данные лексемы используются не только как прилагательные, но и как субстантиваты.
Также необходимо отметить, что в статьях Н.М. Карамзина регулярно используются характеризующие именования москвичей, образующие пару слов богатые и/или знатные (XVII век: «всякой знатной или богатой человѣкъ» [15, с. 252], «другіе знатные или богатые люди» [15, с. 260], «богатые и знатные люди» [15, с. 261], «жены богатыхъ и знатныхъ мужей» [15, с. 263]).
По характерному или разовому действию, поступку, функции
При описании Москвы XVII века Н.М. Карамзиным упоминаются различные преступники [15, с. 267] – грабители [14, с. 131], мятежники [14, с. 133], бунтовщики [14, с. 132]; связано это с тем, что в одной из статей автор описывает Московскіи мятежъ въ царствованіе Алексѣя Михайловича [14].
Также среди москвичей XVII века обнаруживаются утѣсненные [14, с. 125] и (народные) притѣснители [14, с. 134], а также благодѣтели (бѣдныхъ) [14, с. 133], (народные) благотворители [14, с. 144] и покровители (чужестранцевъ) [15, с. 264]. Необходимо заметить, что четыре последних релятора употребляются исключительно в сочетании с объектными расширителями; также требует расширителя и актуальное имя свидѣтели (происшествія) [14, с. 135].
В описаниях Москвы XIX века обнаруживаются слова, называющие субъекты восприятия – читатели [6, с. 276] и слушатели [18, с. 263], которые в ряде контекстов замещаются собирательным Публика [19, с. 58]; [18, с. 264]. В качестве актуального имени используется слово чтецъ («<…> нѣсколько пирожниковъ, которые, окруживъ чтеца, съ великимъ вниманіемъ слушали описаніе сраженія между Австрійцами и Французами» [19, с. 58]). Также в статьях употребляются релятор благотворитель [7, с. 212] и актуальное имя – субстантиват гуляющіе [6, с. 281].
Особо следует отметить употребление Н.М. Карамзиным слова субскрибентъ [19, с. 58]: слово подписчикъ на рубеже веков использовалось в значениях «1) Тот, кто обязался к чему подпискою. 2) Кто под руку, под почерк чей подписывается» [21, с. 846]. Как отмечает В.В. Виноградов, «слово подписчик в современном значении: “лицо, подписавшееся на какое-нибудь печатное издание” <…>, укрепилось в русском литературном языке не ранее начала XIX в., точнее: 10–20 годов XIX в.» [22, с. 494]. Примечательно, что в «Указателе к Вестнику Европы 1802–1830» (1861 г.) при изложении содержания статьи слово субскрибентъ замещается на подписчикъ: «Число субскрибентовъ ежегодно умножалось, и лѣтъ черезъ десять дошло до 4000» (1802) [19, с. 58] > «черезъ десять лѣтъ число подписчиковъ возрасло до 4,000» (1861) [23, с. 3].
Названия родства, свойства, породнения 13
Некоторые показатели степеней родства встречаются в описаниях Москвы как XVII, так и XIX веков – мужъ (XVII век: [15, с. 259]; XIX век: [7, с. 218]), жена (XVII век: [15, с. 269]; XIX век: [7, с. 221]), отецъ (XVII век: [7, с. 224]; XIX век: [7, с. 218]), дѣти (XVII век: [12, с. 102]; XIX век: [6, с. 281]). Другие обозначения обнаруживаются только в статьях о Москве XVII века – супругъ [7, с. 216], супруга [14, с. 126], мать [14, с. 122], сынъ [7, с. 224], дочь [12, с. 102], дѣдъ [7, с. 215]. В них же при номинации москвичек используются лексемы, а) отмечающие особо их отношение к браку – замужніе [15, с. 260], дѣвицы [15, с. 260], б) свидетельствующие потерю кормильца – вдовы [7, с. 214] 14, в) характеризующие по социальному статусу супруга – боярыни [15, с. 263].
По полу, по возрасту, а также по полу и возрасту
В статьях встречаются именования лиц разного возраста преимущественно мужского пола: в описаниях Москвы разных эпох – старецъ 15 (XVII век: [7, с. 224]; XIX век: [9, с. 129]), молодой человѣкъ (молодые люди) (XVII век: [12, с. 101]; XIX век: [18, с. 264]); только XVII век – мущина ([15, с. 260]), мальчикъ ([14, с. 138]), мальчишка ([12, с. 98]); только XIX век – собирательное юношество [18, с. 266] и старикъ [7, с. 211]). Слово старикъ встречается также и в статьях про Москву XVII века, но обозначает не людей преклонного возраста, а предков современных автору москвичей («<…> старики наши съ похмѣлья ѣдали обыкновенно рубленую баранину съ огурцами, перцомъ, уксусомъ и разсоломъ огурешнымъ» [15, с. 261]). Также автор употребляет релятор предки, оппозитивный слову мы, называющему современников автора («Предки наши не имѣли въ Москвѣ гульбища» [6, с. 283], «Пусть мы умнѣе своихъ предковъ» [7, с. 209]).
В описаниях Москвы разных эпох встречается слово женщина (XVII век: [15, с. 260]; XIX век: [6, с. 277]), при этом оно может сочетаться с определениями, указывающими на возраст или социальный статус, – молодая (XVII век: [14, с. 130]), знатная (XVII век: [15, с. 258]) и свѣтская (XIX век: [18, с. 264]). Также однословные именования лиц женского пола разного возраста часто совмещаются с другими их характеристиками 16.
По состоянию здоровья
В статьях о Москве XVII века встречаются субстантиваты больной [15, с. 270] и пьяный [14, с. 137].
Таким образом, для номинации лиц Н.М. Карамзин использует слова, создающие представление о жизни москвичей и не-москвичей в самых различных социальных сферах.
***
Как это видно из приводимых примеров, особый интерес в именовании лиц вызывает дистрибуция прописных и строчных букв.
Говоря об употреблении прописных букв в «Письмах русского путешественника», Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский отмечают, что «в прозе Карамзина они составляют целую продуманную партитуру, означая то смысловое и интонационное выделение, то перевод имени в другой смысловой класс, иногда уважение, иногда иронию» [24, с. 519].
Анализ номинаций лиц позволяет установить два «правила», которыми руководствовался Н.М. Карамзин при выборе прописных букв: а) принадлежность слова к определенной лексико-семантической группе (слова, указывающие национальную принадлежность, подданство; вероисповедание; именования верховных правителей и членов их семей; священнослужителей; титулы; воинские звания; должности), б) тип выражаемого лексического значения: общие обозначения требуют использования строчных, а конкретные – прописных букв (ср. иностранецъ, чужестранецъ vs. Руской, Голштинецъ, Нѣмецъ; иновѣрцы vs. Католики, Лютеране, Реформаты; вельможа, царедворецъ vs. Дворецкій, Окольничій).
В ряде случаев выбор Н.М. Карамзина представляет сложности для толкования. Так, при обозначении сословий преимущественно используются строчные буквы (духовные, князья, дворяне, купцы, мѣщане, граждане, рабы), однако обнаруживаются и прописные – Духовенство и Дворянство (при наличии тождественных по словообразовательной структуре собирательных купечество, мѣщанство, гражданство). Написание слова бояре (Бояре) вариативно и не мотивировано различиями в выражаемых значениях, в отличие от вариативного написания слов дѣти и сынъ: при обозначении сословия используются прописные буквы (Дѣти Боярскіе, Сынъ Боярскій), при обозначении родственных отношений – строчные (дѣти, сынъ).
Вариативное написание, объясняемое необходимостью выражения разных значений, обнаруживается также в следующих случаях:
Гражданинъ – обозначение сословной принадлежности конкретного лица (Гражданинъ Мининъ [7, с. 225]), гражданинъ – все остальные случаи;
Государь – обозначение монарха, государь – в качестве обращения к не-монарху;
Господинъ – при именовании персон (Господинъ Новиковъ) или группы лиц (Господа Московскіе Профессоры), господинъ – при именовании представителей привилегированных слоев общества («Рускимъ крестьянамъ не полюбилось работать на чужестраннаго господина» [12, с. 102]) и в качестве обращения («Господинъ! господинъ! Не надобно ли вамъ цвѣтовъ?»);
Мужъ – «заслуженный деятель на каком-н. общественном поприще» [4, с. 195] (ученый Мужъ), мужъ – при обозначении степени родства.
***
Как мы видим, в статьях Н.М. Карамзина 1802–1803 гг. обнаруживается значительное количество слов, характеризующих москвичей и гостей города по тому или иному признаку. На основании анализа материала можно сделать следующие выводы:
- Тематика статей определяет то, какие лексемы используются при именовании лиц. Например, только в статьях о Москве XVII века описываются мятежи и, как следствие, в них обнаруживаются слова мятежники, бунтовщики и под. Однако наблюдаются и определенные ограничения на использование слов, связанные с тем, какая именно эпоха описывается. Так, вполне логично, что в статьях о Москве XVII века упоминаются Опричные и Стрѣльцы, а в статьях о Москве XIX века – Профессоры, учители и студенты.
- В сфере номинации лиц последовательно реализуется концепт «свой» vs. «чужой». Однако в некоторых тематических областях – именования по возрасту, степеням родства и под. – деление на своих и чужих не наблюдается по причине того, что речь идет о характеристиках, касающихся любого человека.
- Используются агентивные существительные различного семантического типа: актуальные (свидѣтель, слушатель и под.), результативные (Авторъ, грабитель и под.), качественные (любитель, охотникъ и под.), функциональные (продавецъ, сидѣлецъ и под.) и реляционные (благотворитель, притѣснитель и под.) имена. Некоторые из них выступают в функциях, не свойственных их современному употреблению (например, чтецъ в качестве актуального имени).
- Достаточно часто номинации лиц употребляются в сочетании с определениями, позволяющими уточнить, какой именно объект имеется в виду (знатныя Московскія Дамы, благородные молодые люди и под.). В ряде случаев подобные атрибуты используются как субстантиваты (чужестранный, нищий, больной и под.).
- Для обозначения групп людей наряду с конкретными используются собирательные существительные (Духовенство, купечество, мѣщанство, гражданство и под.).
- Обнаруживаются отличия от современного употребления номинаций лиц: а) встречаются архаизмы (субскрибентъ, дорожный человекъ, книгопродавецъ), б) используются лексемы, некоторые ЛСВ которых вышли из употребления (гость в значении «купец», гражданинъ в значении «горожанин», Министръ в значении «посол» и под.).
- В статьях встречается значительное количество историзмов, многие из которых неизвестны большинству современных носителей русского языка (Дѣти Боярскіе, сиделецъ, Окольничій и под.).
- Использование прописных и строчных букв в большинстве случаев мотивировано тем, какое значение выражает слово.
1 На страницах «Вестника Европы» обнаруживается 9 таких статей.
2 О концепте «свой» vs. «чужой» см. [5, с. 126–143].
3 «<…> въ прекраснѣйшее время года я выѣхалъ изъ Москвы <…>» [7, с. 207], «Я обѣщалъ вамъ, любезный другъ, объѣздить Московскія окрестности и сказать нѣсколько словъ о томъ, что увижу» [8, с. 278] и т.п.
4 «Поѣзжайте въ Воскресенье на Воробьевы Горы, къ Симонову Монастырю, въ Сокольники <…>» [6, с. 281], «Подите въ село Преображенское <…> – тамъ, среди огородовъ, укажутъ вамъ развалины небольшаго каменнаго зданія» [9, с. 130] и т.п.
5 Здесь и далее цитаты из статей Н.М. Карамзина приводятся только в случае необходимости пояснения словоупотребления; в большинстве случаев приводится ссылка на один пример словоупотребления.
6 «Гражданин <...> 1. Житель города, горожанин» [13, с. 212, 213].
Полногласную форму горожанин Н.М. Карамзин не использует.
7 «Гражданин <...> 2. Член общества, народа, состоящего под одним общим управлением, подчиненного общему для всех закону» [13, с. 212, 213].
8 Здесь и далее используется классификация, разработанная в «Русском семантическом словаре» (см. [4]).
9 «Гражданин <...> 1. <...> // Юр. Член городского общества, представитель торгово-промышленного сословия, владеющий недвижимой собственностью, мещанин» [13, с. 212, 213].
10 Интересно, что в одном случае Н.М. Карамзин поясняет значение этого слова, употребляя лексему секретарь: «Дьякъ или Секретарь управлялъ ею, всюду ѣзжалъ съ Государемъ и писалъ личные царскіе указы» [9, с. 127].
11 «Министр <...> 2. Дипломатический представитель одного государства в другом; посол, посланник» [20, с. 196].
12 «Сиделец <…> Продавец в купеческой лавке, а также продавец за стойкой в кабаке, трактире» [4, с. 306].
13 К данной группе слов могут быть также отнесены некоторые слова, приведенные в разделе «Верховные правители, монархи, престолонаследники».
14 По тому же признаку выделяются сироты [7, с. 214].
15 Слово употребляется при упоминании мужей почтенного возраста, помнящих «старину».
16 См. приведенные выше слова царица, царевна, жена и др.
Об авторах
В. С. Савельев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: alfertinbox@mail.ru
Доктор филологических наук, профессор
Россия, 119991, Москва, Ленинские Горы, д. 1Вэнвэнь Ли
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: 18103654701wen@gmail.com
Аспирант
Россия, 119991, Москва, Ленинские Горы, д. 1Список литературы
- Багрянцева Г.И. Наименования должностных лиц в двух регламентах Петровского времени // Вопросы филологических наук. 2013. № 1. С. 12–17.
- Ефимова В.С. Наименования лиц в старославянском языке. М.: Институт славяноведения РАН, 2011. 224 с.
- Лаврова Л.В. Лексико-семантические группы слов, характеризующие человека / Автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 1984.
- Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. Под общ. ред. Н.Ю. Шведовой. Т. 1. М.: Азбуковник, 1998. 826 с.
- Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. Издание 3-е, исправленное и дополненное. М.: Академический проект, 2004. 992 с.
- Карамзин Н.М. Записки стараго московскаго жителя: [Очерк об улучшениях в Москве] // Вестник Европы. 1803. Ч. 10, № 16. С. 276–286.
- Карамзин Н.М. Историческия воспоминания и замечания на пути к Троице // Вестник Европы. 1802. Ч. 4, № 15. С. 207–226.
- Карамзин Н.М. Путешествие вокруг Москвы // Вестник Европы. 1803. Ч. 7, № 4. С. 278–289.
- Карамзин Н.М. О тайной канцелярии // Вестник Европы. 1803. Ч. 8, № 6. С. 122–131.
- Карамзин Н.М. Известия и замечания. Москва // Вестник Европы. 1802. Ч. 6, № 21. С. 69–73.
- Словарь русского языка XVIII века. Выпуск 13. Молдавский – Напрокудить. СПб.: Наука, 2003. 274 с.
- Карамзин Н.М. Руская старина (продолжение) // Вестник Европы. 1803. Ч. 12, № 21/22. С. 94–103.
- Словарь русского языка XVIII века. Выпуск 5. Выпить – Грызть. Л.: Наука, 1989. 257 с.
- Карамзин Н.М. О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича // Вестник Европы. 1803. Ч. 11, № 18. С. 119–145.
- Карамзин Н.М. Руская старина // Вестник Европы. 1803. Ч. 11, № 20. С. 251–271.
- Словарь Академии Российской. Часть II. От Г. до З. СПб., 1790. 664 с.
- Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. Том I. А – Кюрины. М.: ОГИЗ, 1935. 822 с.
- Карамзин Н.М. О публичном преподавании наук в Московском Университете // Вестник Европы. 1803. Ч. 12, № 23/24. С. 261–268.
- Карамзин Н.М. О книжной торговле и любви к чтению в России // Вестник Европы. 1802. Ч. 3, № 9. С. 57–64.
- Словарь русского языка XVIII века. Выпуск 12. Льстец – Молвотворство. СПб.: Наука, 2001. 253 с.
- Словарь Академии Российской. Часть IV. От М. до Р. СПб., 1793. 639 с.
- Виноградов В.В. История слов. М.: Институт русского языка РАН, 1999. 1138 с.
- Указатель к Вестнику Европы 1802–1830. Сост. М. Полуденский. М.: В Университетской типографии, 1861. 310 с.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Текстологические принципы издания // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. С. 516–524.