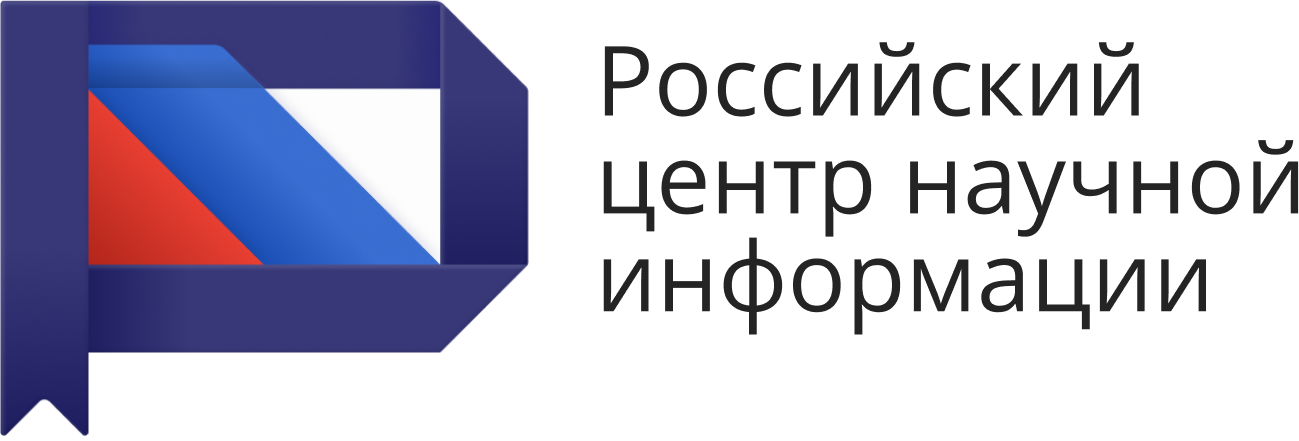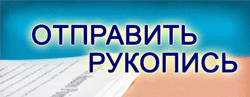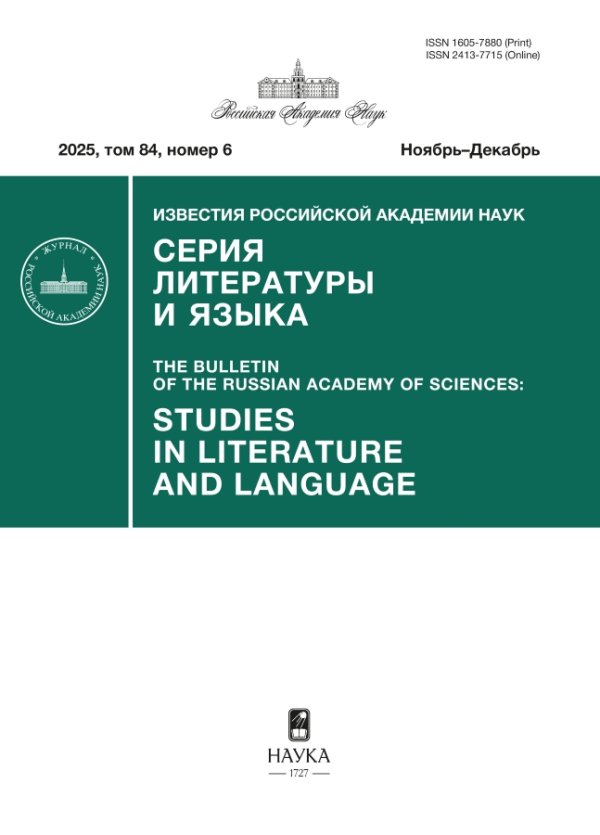О литературных прототипах героев первого военного рассказа Льва Толстого: Толстой – Тургенев – Лермонтов – Пушкин
- Авторы: Кибальник С.А.1
-
Учреждения:
- Институт русской литературы (Пушкинского Дома) РАН
- Выпуск: Том 84, № 1 (2025)
- Страницы: 53-62
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/1605-7880/article/view/289236
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788025010057
- ID: 289236
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена рассказу Льва Толстого «Набег» (1851–1852), в котором преломились события его участия в военной кампании русских войск на Кавказе. Все главные герои этого рассказа имеют, помимо реально-биографических, также и литературных прототипов. Так, капитан Хлопов восходит прежде всего к лермонтовскому Максиму Максимычу и героям тургеневских «Записок охотника». Прообраз «хорошенького прапорщика» Аланина находится в пушкинских стихотворениях, написанных во время кавказского похода русских войск 1829 г.: «Делибаш» (по-турецки «отчаянная голова») и «Из Гафиза» («красавец молодой»). Более сложный, гибридный характер имеет образ поручика Розенкранца, парадоксальным образом соединяющего черты Грушницкого и Печорина (которых сам Толстой не различал), а также некоторые детали поведения «положительных» лермонтовских и пушкинских героев. При этом в рассказе воспроизведены не только отдельные образы, но и батальная топика Лермонтова (стихотворение «Я к вам пишу случайно, право…») и отчасти Пушкина («Путешествие в Арзрум»). Таким образом, в своем первом военном рассказе Толстой еще опирался, по всей видимости, не столько на произведения Стендаля, как это будет впоследствии в случае с романом «Война и мир», сколько на своих великих русских предшественников и современников.
Полный текст
Как известно, первый военный рассказ Толстого «Набег», опубликованный в 1853 г., был создан на основе наброска очерка, который вначале назывался «Письмо с Кавказа», а потом «Описание войны» [1, т. 3, с. 289–291]. В этом рассказе изображен реальный набег русских войск на чеченский аул в конце июня 1851 г., в котором Толстой участвовал и о котором он упоминает в своем дневнике [1, т. 46, с. 65, 355].
В письме к тетке Татьяне Александровне Eргольской он сам называет основных прототипов героев своего рассказа. Некоторые из них изображены настолько сходно, что узнали себя в том или ином его герое. Причем Толстой серьезно опасался, что командовавший русскими войсками в этом «набеге» князь А.И. Барятинский также узнает себя в образе «генерала» [1, т. 46, с. 160].
Что касается сюжета рассказа, то сам Толстой в нем выдумал, судя по всему, не так много: в основном то, что один из главных его героев, прапорщик Аланин, в конце концов погибает. В то время как его прототип, прапорщик Н.И. Буемский, не только остался жив, но еще и смертельно обиделся на то, как Толстой его изобразил [1, т. 3, с. 288].
Тем не менее, рассказ этот Толстой с некоторыми перерывами писал около полугода. Ему надо было найти свое собственное художественное решение темы военного похода, в ходе которого сам он, к счастью, не пострадал, но с обеих сторон немало людей погибло. Как мы увидим, это решение он нашел, в значительной степени опираясь на разработку военно-кавказской темы и изображение русских характеров в предшествующей и современной ему русской литературе1.
1
В центре рассказа два героя: капитан Хлопов и прапорщик Аланин. Первый из них с самого начала немного стилизован под лермонтовского Максима Максимыча: «…У него была одна из тех русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза…», фигура его «внушала невольное уважение» [4, c. 18–19; здесь и далее выделено полужирным мной – С.К.]. Ср. хотя и слегка ироничные, но сходные признания в симпатии героя-рассказчика к лермонтовскому герою на заключительных страницах «Бэлы», которые он сам подытоживает следующим образом: «Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?..» [4, т. 4, c. 215].
Возрастом, внешностью и чином капитан Хлопов также отдаленно напоминает штабс-капитана Максима Максимыча, которого рассказчик «Героя нашего времени» характеризует так: «Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду» [4, т. 3, c. 185]. У Толстого Хлопов также «старый, седой капитан» [4, т. 3, c. 8]. Как и лермонтовский герой, Хлопов – человек только внешне сдержанный и нечувствительный. Если первый из них оказывается чрезвычайно взволнован при новой встрече с Печориным [4, т. 4, c. 218], то второй – растроган, услыхав от героя-рассказчика рассказ о том, как он встречался с его матерью.
Как и в лермонтовском Максиме Максимыче, «в фигуре доброго капитана» Хлопова «было не только мало воинственного, но и красивого». Однако, в отличие от него, «в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему…» [1, т. 3, c. 19]. Как будто бы он – в соответствии с толстовским принципом совмещения противоречий в характере человека – унаследовал кое-что не только от Максима Максимыча, но и от Печорина. Это свое «равнодушие» капитан Хлопов сохраняет и во время «набега» (внушая тем самым спокойствие окружающим), и во время разграбления солдатами взятого ими аула: «Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма самброталического табаку с таким равнодушным видом, что, когда я увидал его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома» [4, т. 3, c. 33]. При этом эту свою трубочку Хлопов как будто бы наследует от Максима Максимыча: «За нею <тележкой – С.К.> шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро» [4, т. 4, c. 185].
Зато прапорщик Аланин представляет собой по отношению к капитану Хлопову полную противоположность. С одной стороны, он очень хорош собой, так что герой-рассказчик все время называет его не иначе как «хорошенький прапорщик». А с другой стороны, Аланин все время суетится и проявляет неумеренный энтузиазм:
Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький и молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поравнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью... Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.
– И куда скачет? – с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта.
– Кто это такой? – опросил я его.
– Верно, он в первый раз идет в дело? – сказал я. – То-то и радешенек! – отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой. – Молодость!
– Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.
Капитан помолчал минуты две.
– То-то я и говорю: молодость! – продолжал он басом. – Чему радоваться, ничего не видя! Вот как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь двадцать человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть – уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а послезавтра третьему: так чему же радоваться-то? [1, т. 3, c. 20]
В ходе рассказа Хлопов и сам проявляет осторожность, и призывает к ней других. А прапорщик Аланин все время порывается атаковать противника и в конце концов делает это со своим взводом, несмотря на «кроткий», но категорический запрет капитана Хлопова.
Начинается же рассказ с того, что капитан Хлопов пытается убедить героя-рассказчика, «волонтера», не участвовать в «набеге»: «– Ну, так что же? Вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то... таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь» [1, т. 3, c. 16]. Тут между ними происходит разговор о том, что такое настоящая храбрость, и все дальнейшее повествование превращается в своего рода притчу об этом.
«– Что, он храбрый был?» – спрашивает герой-рассказчик об этом погибшем «неслужащем»:
– А бог его знает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.
– Так, стало быть, храбрый, – сказал я.
– Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...
– Что же вы называете храбрым?
– Храбрый? храбрый? – повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. – Храбрый тот, который ведет себя как следует, – сказал он, подумав немного.
Я вспомнил, что Платон определяет храбрость знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, чего следует бояться, а не того, чего не нужно бояться». [1, т. 3, с. 16–17; здесь и далее курсив Л.Н. Толстого – С.К.]
В результате своей ненужной и неоправданно рискованной атаки прапорщик Аланин получает смертельное ранение, и капитан Хлопов вдруг начисто утрачивает свое обычное равнодушие:
– Что, дорогой мой Анатолий Иваныч? – сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него, – видно, так богу угодно.
Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печальной улыбкой.
– Да, вас не послушался.
– Скажите лучше: так богу угодно, – повторил капитан [1, т. 3, c. 37–38].
2
Очевидно, впрочем, что образ капитана Хлопова выписан с явной ориентацией не только на лермонтовского Максима Максимыча, но и на некоторых героев тургеневских «Записок охотника». Хотя бы на Хоря, однодворца Овсяникова.
Первое полное издание этой книги вышло в Москве в августе 1852 года [5, т. 4, c. 54], так что осенью того же года, когда Толстой переделывал свой очерк в рассказ (см. об этом: [1, т. 3, c. 291–292]), он мог уже с ним познакомиться2. Правда, в своем «Дневнике 1847–1854 гг.» Толстой упоминает о чтении «Записок охотника» только в записи от 27 июля (8 августа) 1853 года [1, т. 46, c. 170]. Однако это не обязательно было первое чтение Толстым нашумевшей тургеневской книги. И, главное, и «Хорь и Калиныч», и «Однодворец Овсяников» были скорее всего знакомы ему еще по их первым публикациям в некрасовском «Современнике» за 1847 г. (соответственно, в номерах 1 и 5).
Возможная ориентация Толстого в этом рассказе на Тургенева не была рассмотрена до сих пор сколько-нибудь детально. Впрочем, капитан Хлопов и похож на названных тургеневских героев только в самом общем плане. Причем, так как он офицер и дворянин, то скорее, естественно, на Овсяникова, чем на Хоря. Поскольку он изображен в военной обстановке, то и «положительность» его проявляется по большей части в основном как рассудительность и спокойствие в любых, даже самых драматических, обстоятельствах.
Герои же «Записок охотника» обрисованы на фоне крепостнической деревни, поэтому в их характерах на первый план выступает другое. Так, Хорь «был человек положительный, практический, административная голова, рационалист» [5, т. 3, c. 14]. В то же время в отношениях с Калинычем его характер раскрывается совсем иначе: «Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство» [5, т. 3, c. 15]. Сходным образом внешне равнодушный капитан Хлопов принимает неподдельное участие вначале в герое-рассказчике (уговаривая его не участвовать в «набеге»), а затем – в раненом Аланине.
Внимание и заботу Хлопова о герое-рассказчике «Набега» у Тургенева отдаленно напоминает то, как однодворец Овсяников принимает у себя героя-рассказчика «Записок охотника»: «Он меня принял по обыкновению ласково и величаво» [5, т. 3, c. 63]. В особенности это сходство становится очевидно в отношении Овсяникова к его племяннику Мите, которого ему приходится то и дело увещевать за его постоянное и иногда необдуманное радение за людей: «Ну не хвастайся: несдобровать ей, твоей голове, – промолвил старик, – человек-то ты сумасшедший вовсе!» [5, т. 3, c. 74].
Простой русский человек (не только офицер, но и солдат) едва ли не впервые был представлен в произведениях Толстого как человек чести и достоинства, в непростых обстоятельствах проявляющий свои лучшие черты. Впрочем, изображая тип «положительного» русского человека на войне, Толстой не мог не опираться на недавние открытия Тургенева. Своеобразная идеализация простого русского характера, столь присущая зрелому Толстому, при самом своем возникновении, очевидно, опиралась на его художественное изображение Тургеневым. Ведь в «Записках охотника» она также уже присутствовала. Так, в первой журнальной публикации «Хоря и Калиныча» его главные герои-крестьяне даже сравнивались с Гёте и Шиллером [5, т. 3, c. 543].
Неслучайно свой второй военный рассказ – «Рубка леса» – Толстой посвятил Тургеневу. Н.А. Некрасов, по-видимому, верно истолковал этот факт, когда писал Толстому: «формою она (“Рубка леса” – С.К.) точно напоминает Тургенева» [6, т. 14 (1), c. 218]. Некрасов видел в этом рассказе»очерки разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских)» [6, т. 14 (1), c. 218]. Тем самым он явно усматривал в «Рубке леса» произведение, отчасти сходное с «Записками охотника». Ведь герои этого толстовского рассказа – в основном те же крестьяне и помещики, только изображенные в особых условиях. Как мы видели, все это отчасти верно и применительно к рассказу Толстого «Набег».
3
В разработке же собственно военных мотивов Толстой скорее следовал Лермонтову и Пушкину – своим прямым предшественникам в изображении военных действий русских войск на Кавказе. Так, выступая против неоправданного риска на войне, он, по-видимому, отчасти опирался на произведения Пушкина, который в 1829 г. также участвовал в военном походе русских войск на Кавказе – против турок. В одном из своих «батальных» стихотворений, относящихся к его участию в нем, – «Делибаш» (1829; «отчаянная голова» по-турецки) – Пушкин показал, как много на войне неоправданного риска, приводящего людей к гибели. В стихотворении рассказывается о двух храбрецах с обеих противоборствующих сторон, безрассудство которых не приносит им добра:
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы [7, т. 3(1), c. 99].
Получилось своего рода размышление о том, что не является настоящей храбростью. Так что тема первого военного рассказа Толстого могла быть отчасти «подсказана» этим стихотворением Пушкина. После первой публикации в «Северных цветах на 1832 год» и выхода в 1835 г. части третьей «Стихотворений А. Пушкина» (см.: [7, т. 3(2), c. 1197]), стихотворение «Делибаш» к 1852 г. еще, конечно же, еще перепечатывалось. Во всяком случае оно, разумеется, вошло в посмертное издание сочинений Пушкина (в том третий, 1838), так что скорее всего было известно Толстому. Тем более что «Делибаш» – одно из немногочисленных батальных стихотворений Пушкина и вдобавок было написано на Кавказе, где теперь оказался сам Толстой.
У Пушкина эта тема в какой-то мере была навеяна его собственным поведением в начале похода. Оказавшись в войсках, он поначалу «радовался как ребенок» скорому столкновению с неприятелем. А как только оно произошло, «одушевленный отвагою, столь свойственною новобранцу-воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников» [9, c. 104]. Едва успели вывести его из передовой цепи.
Все это нам известно из воспоминаний декабриста М.И. Пущина. Между тем воспоминания эти были написаны им «по настоянию Льва Толстого, который познакомился с Пущиным в 1857 году» [8, c. 446]. Как знать, может быть, что-то из этих рассказов о поведении Пушкина в армии И.Ф. Паскевича Толстой – напрямую или через посредство кого-то другого – слышал уже в пору работы над рассказом «Набег», то есть лет за пять до этого?
Другой пушкинский след в рассказе связан с образом прапорщика Аланина. О его прототипе, Буемском, Толстой писал в те годы как о «ребенке и добром малом», как о его «мальчугане», «молодом и милом», который «жмет руки и готов к сердечным излияниям» (цит. по: [1, т. 3, c. 288]). Всё это присутствует и в Аланине. Однако тот вдобавок еще и отличается какой-то женственной красотой:
В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми... Бедный мальчик! он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке, – не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился наконец на бурку и облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил [1, т. 3, c. 23].
Эту внешнюю привлекательность Аланина герой-рассказчик подмечает даже в момент наивысшей опасности: «Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься на ура» [1, т. 3, c. 35].
Любование героя-рассказчика красивым юношей вызывает в памяти поэзию средневекового персидского поэта Хафиза, для которого такие мотивы вообще характерны. Между тем другим «батальным» произведением Пушкина, которое он написал во время кавказского похода И.Ф. Паскевича, и в самом деле было оригинальное стихотворение «Из Гафиза» (1829), озаглавленное при этом так, как будто это перевод из персидского поэта.
Так же, как и «Делибаш», оно начинается с призыва не подвергать свою жизнь напрасному риску на войне:
Не пленяйся бранной славой,
О красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!
Читатель вправе ожидать, что этот призыв связан с опасением за жизнь этого «молодого красавца». Однако дело не в этом:
Знаю, смерть тебя не встретит:
Азраил, среди мечей,
Красоту твою заметит –
И пощада будет ей!
В чем же тогда причина? А вот в чем:
Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда! [7, т. 3, c. 163]
Оказывается, лирический герой Пушкина призывает «красавца молодого» не участвовать в битвах потому, что это лишит его присущей ему женственной красоты.
Адресат этого стихотворения, безусловно, очень похож на толстовского прапорщика Аланина. Устами капитана Хлопова Толстой также призывал своего героя не рисковать жизнью понапрасну. Но причина этого в толстовском рассказе гораздо более прозаична: потому что его могут убить. И это в самом деле происходит. Никакой Азраил не щадит красоту Аланина. Пушкинские любовно-романтические мотивы Толстой как бы переводит на язык военной реалистической прозы.
Нельзя исключить, разумеется, что прямой связи между этими произведениями Пушкина и Толстого нет. Ведь увлечение мужской красотой, в котором молодой Толстой неоднократно признавался в «Дневнике 1847–1854 гг.», было действительно ему присущ3 и могло преломиться в его творчестве без посредства каких-либо литературных образцов. А тема неоправданного риска могла быть подсказана Толстому его собственными кавказскими впечатлениями.
Впрочем, сходство его первого военного рассказа сразу с двумя почти хрестоматийными пушкинскими батальными стихотворениями настолько значительно, что, как нам представляется, делает высказанное нами предположение достаточно вероятным.
4
Однако Толстой не был бы Толстым, если бы даже в его первом военном рассказе все было так просто и однозначно. В нем также есть бывалый солдат, реакция которого на ранение Аланина удостоверяет очевидный смысл этой достаточно безыскусной притчи:
– Ах, какая жалость! – сказал я невольно, отворачиваясь от этого печального зрелища.
– Известно, жалко, – сказал старый солдат, который с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня. – Ничего не боится: как же этак можно! – прибавил он, пристально глядя на раненого. – Глуп еще – вот и поплатился.
– А ты разве боишься? – спросил я.
– А то нет! [1, т. 3, c. 37]
«Старый солдат» из «Набега» скорее всего представляет собой недвусмысленную отсылку к «дяде» из стихотворения Лермонтова «Бородино» (1836–1837). Как известно, у этого лермонтовского образа в свою очередь есть литературные прототипы в творчестве Пушкина. Если обычно в этой связи писали о «Борисе Годунове» [9, c. 137], то можно также вспомнить тут и пушкинского Савельича из «Капитанской дочки». Тем более что одного из героев своего позднейшего стихотворения «Я к вам пишу случайно, право…» (1840) – также «человека из народа» – Лермонтов будет именовать точно так же: «Эй, Савельич, дай огнива…» [4, т. 1, c. 454].
Вообще, в рассказе Толстого то тут, то там присутствует своего рода контаминация лермонтовских и пушкинских образов. Так, в нем есть еще один герой – поручик Розенкранц – который удивительным образом отчасти совмещает в себе качества Грушницкого и Печорина: «Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т.п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов» [1, т. 3, c. 21].
Толстой называет здесь в одном ряду Печорина и героя известной повести А.А. Бестужева-Марлинского «Мулла-Нур» (1836). Между тем последний – как и другие ее герои, дагестанские горцы – выражается напыщенно, а ведет себя неестественно. Следовательно, Толстому был присущ сходный, критический взгляд и на Печорина, а поскольку автобиографические истоки этого образа очевидны, то, значит, отчасти на самого Лермонтова. Вышеприведенную фразу автора «Набега» стоит воспринимать с учетом этого обстоятельства.
Поручик Розенкранц известен в полку «за отчаянного храбреца». Так что в известной степени он внутренне соотнесен не только с Грушницким4, но и с пушкинским «делибашем». В то же время по характеристике героя-рассказчика, он «тщеславен в высшей степени» [1, т. 3, c. 21]. Если Грушницкий – один из тех людей, которые «важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания» [4, т. 4, c. 238], то аналогичным образом Розенкранц «был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие поэтические чувства» [1, т. 3, c. 22].
Разница в том, что «много добрых свойств», которые были в Грушницком и которые Печорин в своем «журнале» лишь упоминает [4, т. 4, c. 238], Толстой описывает детально. Он не просто говорит, что Розенкранц был «самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился богу». Он также рассказывает, как тот вы́ходил раненого им «немирного чеченца» или вынес из горящего дома «двух голубков» [1, т. 3, c. 22] – прозрачная отсылка к пушкинскому кузнецу Архипу из «Дубровского», который в такой же ситуации спас обреченную на гибель кошку [7, т. 6, c. 199].
Очевидно, что вслед за Пушкиным, стремившимся к изображению людей в их шекспировской многосторонности [8, с. 160], Толстой пытается соединить в одном человеке, казалось бы, несовместимые друг с другом вещи. Тем самым он делает важный шаг к открытию им знаменитой толстовской «диалектики души».
В отличие от капитана Хлопова, поручик Розенкранц во время взятия аула все время суетился: «без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного» [1, т. 3, c. 33]. А в конце рассказа, подъехав к смертельно раненому Аланину, сделал неудачную попытку его утешить:
– Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать с ложечками, – сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц.
Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика; но, сколько можно было заметить по холодно-печальному выражению взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия [1, т. 3, c. 37].
Тем самым, будучи гораздо сложнее и неоднозначнее не только лермонтовского Грушницкого, но даже и Печорина, Розенкранц, тем не менее, аналогичным с этими лермонтовскими героями образом выгодно оттеняет в рассказе Толстого безусловную «положительность» толстовского Максима Максимыча – капитана Хлопова.
5
Впрочем, рассказ воспроизводит не только отдельные образы, но и в целом батальную топику Лермонтова – причем как его прозы, так и поэзии. Как отметил еще Н.Н. Гусев, «не только по мысли – противопоставлению человека и природы, до Толстого выражавшейся во многих поэтических произведениях, – но и по отдельным выражениям все это заключение шестой главы “Набега” очень напоминает некоторые строки стихотворения Лермонтова “Валерик” (“Я к вам пишу…”), написанного за двенадцать лет до “Набега” и также изображающего картину нападения на горцев» [10, c. 416]5.
Тем самым, известное размышление «Набега»: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственнейшим выражением красоты и добра» [1, т. 3, c. 28] – исследователь сопоставлял с риторическими вопросами лирического героя Лермонтова, обращенными к «генералу», который «сидел в тени на барабане / И донесенья принимал»:
…жалкий человек.
Чего он хочет?.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем? [4, т. 1, c. 452]
Разумеется, подобное сопоставление не только оправданно, но и продуктивно. Тем более что картины кровопролитного боя у Лермонтова также противопоставлены мирному сосуществованию человека с природой:
Зато лежишь в густой траве
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз… [1, т. 3, c. 456]
Впрочем, стоит подчеркнуть и важное отличие: у Толстого стремление к войне вовсе не приписывается в его рассказе только «генералу».
В целом же отмеченное Гусевым «прямое воздействие лермонтовского стихотворения на рассказ Толстого» в действительности носило явно более широкий характер. За исключением обращения лирического героя к своей далекой возлюбленной в самом начале стихотворения, всё остальное – при том, что сами батальные сцены в обоих произведениях, естественно, совершенно различны – как будто бы перешло из лермонтовских стихов в прозу Толстого. При этом тон толстовского рассказа также напоминает простоту и сдержанность стихотворения Лермонтова.
Находим мы в нем и сцену умирания раненого, которой заканчивается «Набег». Правда, у Лермонтова умирает капитан, а преисполнен сочувствия к нему солдат:
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленах; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью… на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал…
Спасите, братцы.– Тащат в торы.
Постойте – ранен генерал…
Не слышат… Долго он стонал,
Но все слабей и понемногу
Затих и душу отдал Богу… [4, т. 1, c. 455]
Соотносится с лермонтовским стихотворением и следующая деталь в описании «набега»:
– Ваше превосходительство! – говорил он, приставляя руку к папахе, – прикажите пустить кавалерию: показались значки, – и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях с красными и синими лоскутами на палках. (Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его (Прим. Л.Н. Толстого) [1, т. 3, c. 24].
Ср. у Лермонтова:
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показалися значки
Там на опушке – два, и боле [4, т. 1, c. 453].
Впрочем, отчасти ощущается в рассказе и знакомство Толстого с пушкинским «Путешествием в Арзрум» (1835), для которого характерна интонация хроникера: «Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый воинскому искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту» [7, т. 8, c. 10]. У Толстого эта интонация осложнена направленностью на то, чтобы подчеркнуть противоестественность войны: «Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту, с тем чтобы попросить его доложить о моем намерении генералу. По дороге от форштата, где я остановился, я успел заметить в крепости NN. то, чего никак не ожидал. Хорошенькая двухместная каретка, в которой видна была модная шляпка и слышался французский говор, обогнала меня» [1, т. 3, c. 16].
При этом Толстой изображает наигранную безмятежность «генерала», которая призвана скрыть его тревогу:
Вот еще человек, – думал я, возвращаясь домой, – имеющий все, чего только добиваются русские люди: чин, богатство, знатность, – и этот человек перед боем, который бог один знает чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как будто он встретился с нею на бале! [1, т. 3, c. 18]
Здесь у Толстого начинает проявляться описанный еще В.Б. Шкловским прием «остранения» [11]. Также отчасти посредством него в рассказе изображено поведение «молодого поручика К. полка, отличавшегося своей почти женской кротостью и робостью»:
Сколько я ни вглядывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили идти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекли... Я совершенно ничего не понимал [1, т. 3, c. 18].
Между прочим, очевидно, что у Толстого этот прием восходит не только к Стерну (см. [12, c. 230]; [13]), но и к Вольтеру с его философскими повестями «Кандид» и «Простодушный». В этом смысле к созданию приема «остранения» начинающего писателя, наверное, подводило в какой-то степени и «Путешествие в Арзрум» такого большого почитателя этих вольтеровских повестей, как Пушкин [14, c. 175–176]. Об ужасах войны: раненых и убитых казаках, трупе молодого турка, русских солдатах, которые хотят заколоть раненого турка, – автор «Путешествия в Арзрум» рассказывает совершенно бесстрастно. Война в нем, по точной характеристике Е.Г. Эткинда, показана как «дело грязное, кровавое и отнюдь не героическое, а необходимо будничное» [15, c. 111] (см. подробнее: [16]). Именно так будет отзываться о войне и истинный герой первого военного рассказа Толстого, капитан Хлопов.
«Остранение» в батальных произведениях нередко связано с их внутренней антивоенной направленностью. Последняя, безусловно, имеет место как у Пушкина, так и у Толстого. Однако у Толстого, как мы видели выше, временами звучит еще и прямой антивоенный пафос. Только идет он, разумеется, уже не от Пушкина, а от Лермонтова.
6
Великолепное зрелище южной летней ночи, описанное в «Набеге», разумеется, никого не останавливает и гибели Аланина не предотвращает. Но к счастью, смерть литературных героев не так ужасна, как смерть реальных людей. Более того, некоторые из них после этого оживают.
Именно это произошло с толстовским прапорщиком Аланиным. В какой-то мере из него произрастает герой повести «Казаки» Оленин, который в одном из ее черновых вариантов уже будет составлять «план мирного покорения России» [1, т. 6, c. 111]. А в последнем из «Севастопольских рассказов» «Севастополь в августе» мы уже и вовсе снова находим «мальчика лет семнадцати, с веселыми черными глазами и румянцем во всю щеку». Это младший из двух братьев Козельцовых Володя. Он добровольно попросился в Севастополь: ведь «все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество» [1, т. 13, c. 111]. Оказавшись на батарее, он так же, как и Аланин, вызывает «какой-то любовный экстаз» у юнкера Вланга и также вскоре погибает.
Еще раз возрождается этот тип в «прелестном мальчике» Пете Ростове из «Войны и мира». Точно так же, как прапорщик Аланин и Володя Козельцов, Петя Ростов погибает, ослушавшись запрета «генерала» принимать участие в боевых действиях и призыва Долохова дождаться пехоты. А из капитана Хлопова в прославленном романе Толстого явно отчасти произрастает капитан Тушин.
По отношению к образам прапорщика Аланина, капитана Хлопова и героя-рассказчика из рассказа «Набег» все эти герои вершинных творений Толстого представляют собой в какой-то степени автореминисценцию. Соответственно, в них также, хотя и в меньшей степени, ощущаются интертекстуальные связи с героями Тургенева, Лермонтова и Пушкина.
Хорошо известно позднейшее признание Толстого: «Все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля». Впрочем, оно скорее относится к искусству изображения военных сражений, которое в полной мере проявилось у Толстого в его «романе-эпопее». Об этом говорил и сам писатель: «Если бы я не читал “Chartereuse de Parme”, я не сумел бы написать военных сцен в “Войне и мире”» [17, c. 268–269]6.
Между тем, в своих первых военных рассказах, созданных на Кавказе, в которых описывались не столько сражения, сколько «набеги» и «рубки леса», – причем именно на Кавказе – Толстой не в последнюю, а скорее даже и в первую очередь – опирался на произведения своих великих русских предшественников и современников. Особую роль при этом играла способность писателя не только к контаминации и творческому претворению самых разных литературных источников, но и к созданию оригинальных художественных образов на основе впечатлений от общения с реальными людьми, преломленных под воздействием актуальных литературных моделей.
1 До настоящего времени этот вопрос, к сожалению, освещен недостаточно – в том числе, и в комментариях не только к 90-томному, но и к 100-томному академическим изданиям Полного собрания сочинений (cм.: [3, т. 2, c. 283–323]).
2 Впервые рассказ Толстого был опубликован в третьем номере «Современника» за 1853 г. (с. 93–116), цензурное разрешение на выход которого было подписано 28 февраля 1853 г. [3, т. 2, c. 283].
3 Однако это же обстоятельство делает весьма вероятным знакомство Толстого с пушкинским стихотворением «Из Гафиза», которое – так же как «Делибаш» – перепечатывалось в посмертном собрании сочинений Пушкина.
4 Ср. его характеристику Печориным в «Княжне Мери»: «Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..» [4, т. 4, c. 238].
5 Правда, как отметил исследователь, в дневнике Толстого запись: «Читаю Лермонтова третий день» – относится к 26 декабря 1852 года, то есть ко времени, когда работа над «Набегом», согласно тому же «Дневнику», как раз была завершена [10, c. 416]. Однако она, разумеется, не свидетельствует о том, что до этого Толстой Лермонтова не читал.
6 Со времен Л.П. Гроссмана [18] это свидетельство принято в первую очередь относить к работе Толстого над его «романом-эпопеей».
Об авторах
С. А. Кибальник
Институт русской литературы (Пушкинского Дома) РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: kibalnik007@mail.ru
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4Список литературы
- Толстой Л.Н. Полн. собр. сочинений: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1928–1958.
- Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. 952 с.
- Толстой Л.Н. Полн. собр. сочинений: В 100 т. Т. 2 / Текст и коммент. подготовила Н.И. Бурнашева; Ред. тома Л.Д. Громова-Опульская. М.: Наука, 2002.
- Лермонтов М.Ю. Полн. собр. сочинений: В 4 т. Л.: Наука, 1979–1980.
- Тургенев И.С. Полн. собр. сочинений: В 30 т. М.: Наука, 1978–2018.
- Некрасов Н.А. Полн. собр. сочинений: В 15 т. Л. (СПб.): Наука, 1981–2001.
- Пушкин А.С. Полн. собр. сочинений, 1837–1937: В 16 т. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1937–1959.
- А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.; Л.: Худож. лит., 1985. Т. 2.
- Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. 2-е изд. М.; Л.: Наука, 1964. 265 с.
- Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 720 с.
- Шкловский В. О теории прозы. Л.: Федерация, 1929. 266 с.
- Шкловский В.Б. Тетива. О несходстве сходного. М.: Сов. писатель, 1970. 375 с.
- Грызлова И.К. Штрихи художественных приемов Лоренса Стерна в рассказах «Набег» и «Святочная ночь» // Яснополянский сборник. Тула, 2000. С. 106–115.
- Заборов П.Р. Русская литература и Вольтер. XVIII – первая треть XIX века. Л.: Наука, 1978. 246 с.
- Эткинд Е.Г. Симметрические композиции у Пушкина. Париж, 1988. 84 с.
- Долинин А.А. Путешествие по «Путешествию в Арзрум». М.: Новое издательство, 2023. 306 с.
- Буайе П. Три дня в Ясной Поляне // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1978. С. 266–270.
- Гроссман Л. Стендаль и Толстой // Гроссман Л. Собр. сочинений: В 5 т. Т. 4: Мастера слова. М., 1928.