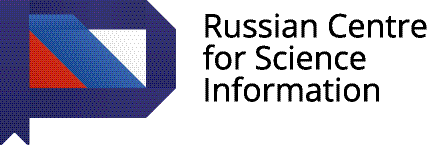Henry James’s “The Turn of the Screw” in the Context of the Victorian “Dramatic Monologues” Tradition
- Autores: Lugovtsova A.E.1
-
Afiliações:
- A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
- Edição: Volume 83, Nº 6 (2024)
- Páginas: 118-127
- Seção: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/1605-7880/article/view/272414
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024060106
- ID: 272414
Texto integral
Resumo
The work of Henry James is widely known for its abundance of original narrative techniques that enriched pre-modernist prose. The formation of the literary style of the Anglo-American writer falls on the period of late Victorianism (the last third of the 19th century), which explains the closeness of his artistic prose to the genre system of that era, including overlap with a special experimental genre of Victorian literature – “the dramatic monologue”. This Victorian genre has recently been rethought by literary scholars in line with neo-Victorian prose. The purpose of this article is to clarify ideas about the range of James’s narrative techniques against the background of the diversity of Victorian traditions, which provides new possibilities for the interpretation of his texts. The structural and stylistic correspondences between the Victorian “dramatic monologue” and the novella “The Turn of the Screw” (1898/1908) merit particular attention. The novella has not yet been examined in detail from this perspective, although it has never been deprived of the critics’ attention. Research interest also stems from the rhythmic text organization of the tale, remarkable in both prosaic and poetic literary context.
Texto integral
На протяжении всего XX столетия творчество американского писателя Генри Джеймса (1843–1916), который считал себя также продолжателем европейских – и особенно британских – литературных традиций [3, с. 445–446], исследовалось литературоведами, опирающимися на различные методологические направления. Читателям XXI в. его творчество обыкновенно преподносят как включающее три основных этапа: 1) ранний период, когда Джеймс создавал крупные романы, описывающие многонациональное общество и межнациональные связи; 2) переходный этап, когда он экспериментировал с излюбленной малой формой nouvelle; 3) зрелая фаза, отмеченная новым модернистским стилем (подробнее о тонкостях периодизации см.: [3]). Викторианская литературная эпоха, свидетелем и непосредственным культурным представителем которой, на правах англоязычного автора, являлся Генри Джеймс, обусловила специфику его повествовательных техник и стилевых приёмов.
Поиск творческих перспектив англоязычного прозаика пришелся на период позднего викторианства (рубеж XIX–XX вв.), когда литературная традиция преимущественно развивалась в сторону психологизации повествования. Викторианская Англия славилась художественными открытиями на этом поприще: жанровая номенклатура как в прозе, так и в поэзии пестрит разнообразными литературными формами, описывающими психологические катаклизмы. В прозе заметным явлением сделался сенсационный роман, а в поэзии – экспериментальный викторианский жанр так называемого драматического монолога [9]; [16]. Виднейшим поэтом викторианской эпохи был Альфред Теннисон, и именно благодаря его творческим исканиям «драматический монолог» впервые заявил о себе. Роберт Браунинг, ещё один мастер «драматического монолога», как считается, довёл этот жанр до совершенства.
Викторианскому драматическому монологу посвящено большое количество подробных исследований. Специалисты сходятся во мнении, что этот тип экспериментальной викторианской поэзии предвосхищает многие эксперименты модернистской и постмодернистской литературы. Синтез лирических и драматических высказываний в викторианских драматических монологах особым образом высвечивает субъективность как говорящего лица, так и его слушателя. Одним из наиболее известных исследователей этого жанра является американский литературовед Роберт Лангбаум, который в своей работе 1957 г. рассматривал жанр английского драматического монолога как продолжение романтической «поэзии опыта» (см.: [12]). Викторианский монолог, по мнению исследователя, подчёркивает важную для эпохи романтизма и постромантизма тенденцию обращения непосредственно к жизненному и эмоциональному опыту говорящего – опыту, который может вызывать у сторонних наблюдателей совершенно разный отклик, от положительного до отрицательного. Что касается драматического монолога, то персонаж, произносящий эту речь, согласно Лангбауму, вызывает к себе особое противоречивое отношение читателя, балансирующее на грани симпатии и осуждения (sympathy / judgement). Исследовательский интерес Лангбаума сосредоточен главным образом на проблеме риторического воздействия драматических монологов на их слушателей и читателей.
Отметим, что в отечественном литературоведении практически не встречаются труды о традиции драматического монолога, за исключением недавно опубликованного исследования (см.: [5]), на базе которого здесь формулируются главные черты викторианского драматического монолога. Необходимо помнить, что термин «драматический монолог» – “dramatic monologue” – закрепился в литературоведческом обиходе только в начале XX в. (подробнее об истории термина см.: [5, с. 80–82]). Было акцентировано, что такой монолог произносит персонаж, страдающий духовно-нравственным недугом, а адресатом является молчаливый собеседник / слушатель, намеренный или случайный очевидец неприглядной тайны [5, с. 78]. В исследовании также уточняется понятие драматического монолога как особого индивидуально-авторского жанра викторианской литературы, изначально известного по многочисленным образцам, созданным Браунингом и Теннисоном, а впоследствии породившим массу подражаний среди англоязычных поэтов, включая модернистских, как в Великобритании, так и в США. Крайняя эмоциональная субъективность говорящего, маскирующегося под объективного оратора, столь красноречиво показанная в лучших образцах викторианской поэзии, сегодня не менее красочно изображается в постмодернистских неовикторианских романах.
Здесь нас занимает следующий вопрос: наблюдались ли примечательные переклички между «драматическими монологами» (поэзия) и прозаическими жанрами английской литературы той же викторианской эпохи? Специальных трудов, посвященных этой проблеме, нам выявить не удалось. Между тем некоторые исследователи отмечают в прозе Генри Джеймса поэтическо-драматические элементы весьма близкие тем, которые присутствовали в поэзии Браунинга.
Непосредственное влияние Р. Браунинга на прозаическое творчество Г. Джеймса неоднократно было отмечено специалистами (см.: [11]; [14]; [17]). Наиболее досконально эту сторону дела изучил Росс Поснок в работе 1985 г. «Генри Джеймс и проблема Роберта Браунинга», исследовавший историко-культурное, литературное и психологическое воздействие, которое Браунинг оказал на Джеймса. Поснок отмечает «чувство художественного родства» Джеймса с поэтом, ссылаясь на заметки Джеймса об особом сходстве между драматическим монологом Браунинга и «драмой сознания» (“drama of consciousness” – принцип «интенсивного и интимного повествования» с помощью попыток описать душевное состояние героя), которую разрабатывал Джеймс [17, p. 155]. В соответствии с этим драматические монологи являются словесным выражением психологических процессов, которые они запускают. Одним из наиболее выразительных примеров эффекта такого рода является монолог Браунинга «Епископ заказывает себе гробницу в церкви Святой Пракседы» (1845), где, как и в случае с «Поворотом винта», эффектность монолога задается уже в самом названии. Заметим, однако, что о драматическом монологе как жанре Поснок говорит очень мало, посвящая ему всего лишь одну страницу своей монографии. Объяснить подобное «невнимание» можно лишь тем, что литературоведческое представление о викторианской жанровой номенклатуре в 1985 г. отличалось от современного. Серьезные системные труды о центральном положении драматического монолога в викторианской поэзии были созданы следующим поколением ученых, на рубеже ХХ и XXI вв. [9]; [16].
О каких жанровых перекличках новелл Джеймса с викторианской литературой было принято говорить раньше? К примеру, в первой половине ХХ в. исследователи отмечали, что новелла Джеймса наводит на размышления о природе реальности. В новелле присутствует множество повторяющихся образов, которые подчиняют повествование особому ритму, приближая это прозаическое произведение к драматическому стихотворению [8]. Викторианский литературный контекст создания новеллы подробно характеризовали исследователи в 1960–1970-х годах (см.: [15]; [18]; [19]). Так, «Поворот винта», в их рассмотрении, вбирает в себя отголоски из нескольких жанровых разновидностей викторианского романа. В частности, детективного и сенсационного романов. Новеллу «Поворот винта» иногда характеризуют как готический детектив, выстроенный на психологических нюансах.
Вспомним вкратце историю создания и сюжетную канву этой новеллы.
Записные книжки Джеймса демонстрируют, что он обдумывал свой замысел в течение разных периодов времени. Завязкой повествования «Поворота винта» служит история о призрачных злодеях-слугах, угрожающих двум детям, поведанная Джеймсу архиепископом Кентерберийским. Джеймс подчёркивал, что история «неясная и недосказанная, причем в ней угадывается возможность создания странного, зловещего эффекта. История должна быть рассказана сторонним наблюдателем» [1, p. 107]. Отказываясь от любого точного описания ужасных «призраков», Джеймс представил читателю только намек на их очертания, которые каждый может дорисовать сам в соответствии с личными склонностями. Акцент, таким образом, делается не столько на явлении злых духов (каковых много в разных историях о привидениях), сколько на причудах саморефлексии: «Привлекательность всего этого для рассеянного современного ума – в открытом поле переживаний, как я это называю, по которому нас заставляют бродить; <это> смежный, но независимый мир, в котором нет ничего правильного, а лишь то, что мы себе представляем»1 [1, p. 119].
Размышляя о писательстве в своих критических работах, Джеймс также использовал термины живописи в качестве метафор2. Например, то, что автор художественной литературы может трактовать предмет как картину или же сценическую зарисовку; под этим он подразумевал, что картина является описательной и характерной, в то время как сцена драматична ввиду своей коммуникативности. Он считал, что изобразительный подход больше подходит для формы nouvelle (иногда он обозначал эту форму также английским словом tale). В случае с новеллой «Поворот винта» (1898 г. – первая редакция, 1908 г. – вторая редакция) можно увидеть смешение обоих стилей.
Первоначально новелла «Поворот винта» появилась в нескольких выпусках журнала “Collier’s Weekly” (с января по апрель 1898 г.) и сразу же зарекомендовала себя как шедевр массовой литературы – мелодраматичная история о привидениях. Осенью 1898 г. была опубликована англо-американская книжная версия «Поворота винта» с небольшим количеством технических правок. Финальный вариант новеллы, с некоторыми уточнениями, Джеймс представил в 1908 г. в нью-йоркском собрании своих сочинений. Текстологическая работа Джеймса над новеллой свидетельствует об его особой внимательности к структуре или даже метру своего произведения, проявившуюся во внедрении притяжательных местоимений, в замене глаголов восприятия глаголами ощущения. В итоге, всю историю поглотила сфера чувств главной героини – гувернантки. Если в ранних версиях гувернантка окружающее «обозревала» или «видела», то в поздней версии она перестала видеть, а начала «ощущать». Подобная правка способствовала усилению суггестивности текста, приглашающего читателей, образно говоря, самим до конца «поворачивать винт», «закручивать» смысловые «гайки».
Здесь мы ориентируемся на итоговый текст новеллы «Поворот винта».
Событийный ряд двадцати четырёх глав новеллы строится вокруг весьма субъективного повествования молодой гувернантки, которую отправляют в загородное поместье Блай присматривать за двумя детьми – Майлзом и Флорой. Их дядя, опекун детей, строго наказывает ей никогда не писать ему, не спрашивать об истории дома и не оставлять детей без внимания. Вскоре гувернантка начинает замечать призраков на территории дома, а когда делится этими наблюдениями с экономкой миссис Гроз, то та, по словесным описаниям, узнает портреты умершей гувернантки (мисс Джессел) и почившего камердинера (Питер Квинт). Поскольку, по ходу истории, поведение детей становится всё более странным, гувернантка делает вывод, что призраки стремятся дурно подействовать на Майлза и Флору, и она клянётся защищать детей пред лицом всех угроз.
Вопрос, который неизменно задают себе читатели и критики разных поколений – действительно ли в новелле имело место явление призраков или всё это плод воспалённого воображения гувернантки?
Необходимо сказать, что эмоциональное повествование героини оформлено в виде рукописи, на которую в прологе указывает некий Дуглас, присутствующий в компании, расположившейся в старинном доме в канун Рождества, чтобы развлечься и рассказать друг другу истории о привидениях. Дуглас пересказывает рукопись гувернантки (которую он представляет как очень милую и симпатичную женщину) всем собравшимся.
* * *
Важной особенностью викторианского драматического монолога является поэтическое соединение в нем эмоциональной субъективности с риторической эффективностью, что даёт нам основание проследить его переклички с новеллой Джеймса, которая, как литературоведы уже отмечали [8], обладает рядом поэтических особенностей.
Необходимо начать с основополагающей черты викторианского драматического монолога, которую выделяют современные нам специалисты, – то, что это речь человека безумного, одержимого душевным недугом или тёмной страстью. То, что на момент разворачивающихся событий гувернантка страдает от духовно-нравственного недуга, не подлежит сомнению, что неоднократно аргументировалось исследователями (подробнее, см., например: [6]; [13]). Джон Лиденберг, к примеру, характеризует героиню Джеймса следующим образом: «…governess is “anxious, fearful, possessive, domineering, hysterical and compulsive”, she is concerned primarily with herself» (букв.: «её отличают мелодраматичность, тревожность, пугливость, собственнические наклонности, властность, истеричность и компульсивность») [13, p. 290, 276]. На протяжении повествования усиливается общее впечатление, что неослабевающая тревога является не просто результатом стрессовой ситуации, в которую попала молодая девушка, а, скорее, что это сама суть её характера. Кроме того, она получает «тревожные письма из дому, где дела шли неблагополучно»3. Есть весомый намёк на то, что её проблема наследственная – она говорит о «причудливых склонностях»4 в характере своего отца. Гувернантка также упоминает о навязчивых идеях, в какой-то момент задавая себе вопрос, как ей «отныне, шаг за шагом, восстановить [собственную] странную одержимость»5. Она периодически напоминает о безграничной силе своего воображения и признаётся, что довольно легко «переступает границы» (“be carried away”). Мечтательная девушка, явно начитанная и явно романтически увлечённая своим работодателем, поначалу кажется просто наивной: «В такие минуты чувствовать себя спокойной и оправданной приходилось в радость; и, разумеется, думать, что благодаря моей осмотрительности, моему здравому смыслу и высокому чувству такта и приличия я доставляю радость – промелькни в нём эта мысль! – человеку, напору которого я уступила»6. Героиня прячет письма детей дяде, обосновывая это тем, что письма «были столь прекрасны, что с ними трудно было расстаться, отправив по почте, – и я сберегла их и берегу по сей день»7. Она и сама пишет послание, но не собирается его отправлять, поскольку опасается раскрытия её «тонкой механики», которую она «пустила в ход, чтобы привлечь его внимание к [её] пренебрегаемым чарам»8. От начала и до конца она подтверждает, что сильно встревожена, беспокойна и находится в нервозном состоянии. Любопытно и то, что дядя живёт на Гарлей-стрит – известной в викторианскую эпоху улице специалистов различных областей медицины – и что именно “a fluttered, anxious girl” попадает туда для устройства на будущую работу. Эта деталь выглядит довольно ироничной.
Ещё одной важнейшей особенностью викторианского драматического монолога является наличие у говорящего некой неприглядной тайны, которая заставляет его погрузиться в «поток оправданий» (о термине см.: [5, с. 80]). Аналогичную картину можно наблюдать и в новелле Джеймса. Важно отметить, что высказывание гувернантки предстаёт в ретроспекции. Использование подобного повествовательного ракурса смещает акцент с содержания истории на мотив и цель его надобности как такового. Казалось бы, гувернантка «прокручивает» ситуацию уже в более осмысленном состоянии, чем это было на момент описываемых событий. Вдобавок она оформляет своё письменное изложение «самым изящным стилем» (“in the most beautiful hand”). Такая видимая объективность изложения маскирует действительную неустойчивость настроения гувернантки, проступающую через текст. Она оправдывает себя тем, что опасалась этой работы: «Я помню начало всего как чреду взлётов и падений, как невесомое колебание между ритмичными и неравномерными пульсациями»9. В заключительных сценах новеллы гувернантка отсылает Флору к дяде и остаётся с Майлзом, чтобы добиться от него признания в каких-либо «безнравственных деяниях». Пытаясь оправдать своё поведение, гувернантка стремится принизить ребёнка, угадать в нем следы порочного общения со злыми призраками и заставить его говорить именно об этом и ни о чем другом [1, p. 84].
Гораздо более богатая почва для поэтического доказательства повествования видится в повествовательной перспективе. Там, где используется точка зрения от первого лица, а в монологах по определению всегда, в картину добавляется дополнительный слой, связанный с ненадёжностью повествователя (“unreliable narrator”). И это ещё одна черта, сближающая викторианские «драматические монологи» и новеллу Джеймса. Рамочная конструкция «Поворота винта» расширяет перспективность повествования, но и затрудняет возможность проследить источники его достоверности. Ко всему прочему, обрамляющее повествование выполняет функции одновременно и вступления, и постскриптума к основной истории. Дуглас, персонаж пролога, хотя и прочитал текст, в котором гувернантка фигурирует как возможная преступница, описывает её как «любезнейшую из женщин, достойную всего чего бы то ни было»10. Откровенное признание гувернантки в своем покушении на жизнь ребёнка, когда «его [Майлза] сердечко, лишённое / освобождённое, остановилось»11, по-видимому, никак не влияет на мнение Дугласа о ней. Дуглас упоминает, как в свободные летние часы они гуляли и беседовали и что только он знает всю историю12. Разговоры и прогулки, как о них отзывается Дуглас, видятся недостаточно интимными, чтобы гувернантка почувствовала себя достаточно комфортно перед рассказом такого рода. Кажется, что в интимности пары должно быть нечто большее, о чём Дуглас, вероятно, умалчивает. Читатель ожидает рассказ о привидениях и приспосабливает себя к этому конкретному формату повествования, вследствие чего не замечает определённые недосказанности. Более того, чтобы ещё больше отбить охоту сомневаться в самом факте существования «призраков», пролог культивирует уважение к характеру и проницательности гувернантки, представляя её как надёжного рассказчика. Столь явно позитивный настрой Дугласа в отношении к одержимой героине весьма значительно воздействует на читателя.
В тексте Джеймса, как и в традиционных викторианских «драматических монологах», можно выявить обращение героини-рассказчицы к определённому молчаливому лицу: в её рукописи имеются подобного рода обращения к анонимному читателю (“think what you will of it”, “you may imagine”, “well, you’ll see what”). Дуглас уверенно заявляет, что гувернантка никогда не делилась этой историей ни с кем, кроме него: он первый выносит повествование на широкого слушателя. Автор пролога, в свою очередь, получает рассказ и рукопись от Дугласа в составе завещанного наследства. Таким образом, между гувернанткой и несколькими рядами «слушателей» её «исповеди-оправдания» расстояние постепенно увеличивается (непосредственный слушатель Дуглас, затем автор пролога, затем читатели новеллы Джеймса).
Манипуляции и нарушение логики в мысленном потоке говорящего являются обязательной характеристикой драматического монолога. Эта же черта присутствует и в новелле Джеймса. Здесь вспоминается ещё один персонаж новеллы – немолодая экономка миссис Гроз (также Гросс, Гроус – Grose; омофон Gross), чья фамилия намекает на грубость и притупленность, что акцентирует Джеймс и что неоднократно подмечали исследователи (см., например: [17]). Для гувернантки экономка, подобно большому зеркалу, расположенному в комнате в поместье Блай, отражает её образ «в полный рост», ясно и без прикрас. В то же время гувернантка наслаждается своим интеллектуальным превосходством над миссис Гроз и возможностью управлять пожилой женщиной: «Я слепила из неё вместилище зловещих тайн, но в её терпеливой покорности моим страданиям нашлось и причудливое признание моего господства – уважение к моим достоинствам и к моей должности. Она предложила своё сознание моим разоблачениям, как если бы я вдруг смешала колдовское варево и протянула ей, а она бы протянула мне большую чистую кастрюльку»13. Мысленно возвышаясь над экономкой, гувернантка исключает возможность независимого существования другой точки зрения и не внемлет ей.
Одна из навязчивых идей гувернантки заключается в том, что Майлз представляет угрозу. Это становится оправданием её всё более безрассудных действий. Но такое отношение к Майлзу не было очевидным, когда гувернантка впервые встретилась с мальчиком: реакция гувернантки на Майлза перекликается с её чувствами к дяде, чья привлекательная харизма произвела схожий эффект. Стоит отметить, что автор снова обращает внимание на элемент переосмысления, который она использует в рукописи, чтобы оправдать свой рассказ. Через «прекрасную возможность близости» с мальчиком гувернантка пересматривает свою «мелкую и душную жизнь» и обретает новое знание о себе, знание о радости, музыке, свободе и жизни. Она наслаждается этим «открытым полем переживаний», но в ретроспективе видит в этом даре ловушку, поскольку субъект её авторитета стал не получателем, а дарителем знания. Её сверхчувствительность к присутствию призраков дополняется невесть откуда взявшимся пониманием их намерений и предвидением картины будущего [1, p. 27–28]. Она намеренно искажает события, а затем пытается убедить себя в обратном и проецирует собственное возбуждённое состояние на мальчика [1, p. 39]. Она сознательно хочет верить в ужасность происходящего и испытывает облегчение, когда её предчувствия находят подтверждение [1, p. 37].
Среди характерных особенностей викторианских драматических монологов – их переполненность риторической экспрессией и многообразием изобретательных приемов аргументации [5, с. 81], включая использование параллелей, ассоциаций и логических «прыжков». Ассоциативные цепочки, которыми пестрят драматические монологи, вырисовываются и в тексте Джеймса. Литературные отсылки и образная организация речи показывают, как героиня помещает разворачивающиеся для неё события в особые художественные рамки. В её нарративе возникают мрачные метафорические ряды: “the spring of a beast”, “I was like a gaoler with an eye”, “brushed my brow like the wing of a bat” («прыжок зверя», «я была как тюремщица с глазом», «коснулось лба, словно крыло летучей мыши») и т.д. В отношении миссис Гроз на протяжении повествования разбросаны такие формулировки, как “the idea of grossness and guilt”, “the grossness broke out”, “someone had taken a liberty rather gross” («идея непристойности и вины», «обнаружилась непристойность», «кто-то позволил себе довольно грубую вольность»). Ближе к концу новеллы гувернантка, кажется, осознаёт свои проступки: «Я вновь вскочила на ноги, а сознание моё было полно тьмой»14, «Казалось, я плыву не к ясности, а к ещё более непроглядной темноте, и уже через минуту из глубин моей жалости возникла тревожная мысль о его [Майлза] вероятной невинности. Она была оглушающей и лишающей всякой опоры –если бы он оказался невинен, то кем же, о Господи, оказалась бы я?»15. Ещё одно рассуждение того же типа встречается в XVIII главе, когда Майлз играет на пианино для гувернантки. «Даже Давид, игравший для Саула, не смог бы проявить более тонкую проницательность»16, – комментирует она. Согласно Ветхому завету, Саул одержим злым духом безумия, что уже отмечали отдельные критики «Поворота винта» (см., например, исследование О. Каргилла: [6]). Показательно, что гувернантка, дочь священнослужителя, не могла не знать библейского подтекста, но в своём ретроспективном повествовании она, вероятно, не осознает двойную иронию: с Саулом можно сравнить не только Майлза, но и саму гувернантку. Охваченная безумием, она преследует детей и даже рискует их жизнями.
Стоит также остановиться и на тематике сверхъестественного, которая привлекает большую часть читателей к этому произведению Джеймса. Примечательно, что и здесь легко обнаружить переклички с викторианскими драматическими монологами, пестрящими спиритической тематикой и медиумизмом (подробнее см.: [5, с. 82–83]). В декабре 1898 года, уже после выхода серийной и книжной публикаций «Поворота винта», Джеймс писал известному спиритуалисту Фредерику Майерсу (F.W.H. Myers), что в новелле он намеревался «создать впечатление того, что дети оказались в контакте с наистрашнейшим адским злом и опасностью» [1, p. 112]. Поскольку Джеймс описывал эту новеллу как «образец чистой изобретательности и холодного художественного расчёта» [1, p. 125], многие критики, говоря о новелле, обходили сверхъестественную тематику стороной, поскольку Джеймс пытался показать историю о «сверхъестественном ужасе и страданиях» через психологию подозрений и смутных ощущений (см., например: [10, p. 309]). Потому призраки Джеймса не имеют прямого отношения к спиритуализму; они – явления психологического толка. Посредством такого психологизированного подхода писатель создавал общую атмосферу зла, а читатель додумывал в своём воображении всё остальное.
Джеймс также намекает на в значительной степени игнорируемое измерение своей работы в предисловии к изданию 1908 года, где пишет, что «Питер Квинт и мисс Джессел вовсе не “призраки”, а гоблины, эльфы или демоны, свободно сконструированные, как и старые судебные процессы по обвинению в колдовстве» [1, p. 122]. Упоминание процессов над ведьмами, которое поначалу может показаться крайне неуместным, на самом деле указывает на лежащую в основе новеллы Джеймса юридическую структуру. Если Питер Квинт и мисс Джессел имеют связь с колдовством, то, логично, что гувернантка – их обвинитель, тогда как читатель выполняет роль присяжного. Джеймс показывает лёгкость, с которой читатель склонен верить, даже при отсутствии каких-либо убедительных доказательств, обвинениям в адрес тех, кто вызывает иррациональные подозрения. Подобные, казалось бы, тривиальные фактические детали, как правило, скудны в интерпретациях новеллы в пользу более двусмысленных элементов, однако они направляют к подлинной и по-настоящему тревожащей проблеме, которую можно обнаружить в собственной готовности читателя / слушателя служить послушными свидетелями необоснованного обвинения в злонамеренности, которое гувернантка выдвигает против детей и призраков.
Концовка новеллы особо примечательна своей незавершённостью: драматичный монолог гувернантки прерывается, а точных ответов на поставленные в новелле вопросы – кто виноват? и в чем именно? – читатель-слушатель так и не получает, бесконечно продолжая решать задачку со множеством неизвестных. Часть этого эффекта – слов и звуков, продолжающих звучать в голове, – Джеймс достигает с помощью особой ритмической организации своего прозаического текста. Вспомним, между прочим, драматическую поэзию Браунинга, где сосуществует несколько голосов и ритмов высказываний: в дополнение к основному говорящему персонажу привлекается маска, которую говорящий использует в общении с аудиторией (подробнее об этом см.: [7]). По сути, этот метод представляет собой риторику убеждения, приближающую слушателя к точке зрения и к ритмам чередования мыслей, образов и слов говорящего. Тонкости ритмического построения не остались вне исследовательского внимания и в творчестве Джеймса. В частности, Д.М. Урнов подмечает в прозе писателя «некий затягивающий ритм» [4, с. 349], то есть особый эффект чередования, соединения и разъединения впечатлений зримых, слышимых и осязаемых. Джеймс, по мнению исследователя, управляет читательским вниманием, переключая его на какую-либо навязчивую мысль с помощью ритмически чередующихся оговорок и ассоциаций [4, с. 355–356]. Читатель остаётся с впечатлением услышанного и выраженного, когда ничего конкретного, собственно, и не было сказано или показано. Добавим к этому, что история о гувернантке и детях с призраками была поведана умелым рассказчиком, владеющим ритмической дикцией и оставляющим благоприятное впечатление, подобно тому, как красота каллиграфического почерка гувернантки, подарившей Дугласу свою рукопись, тоже оставляла в памяти благоприятный след.
Своего рода «формулой» литературного стиля Генри Джеймса Д.М. Урнов считает описанную – с помощью ассоциативных чередований визуальных и звуковых образов – «интенсивность переживания какого-либо опыта» [4, с. 355]. В какой-то мере формула Джеймса, на наш взгляд, предвосхищает ещё одну формулу конкретного переживания, сотканного из ряда внешних деталей – «объективный коррелят» (“objective correlative”) Т.С. Элиота, помогающий писателю опосредованно «показать» свой предмет, придав ему непосредственность, которая становится живым опытом для аудитории.
Итак, подведём некоторые итоги нашим наблюдениям о перекличках новеллы Генри Джеймса «Поворот винта» с особым экспериментальным жанром викторианской литературы – драматическим монологом (“dramatic monologue”).
Как было показано, многие приёмы, использованные Джеймсом, напоминают приёмы Браунинга, изученные современными литературоведами на материале его известных произведений («Моя последняя герцогиня», «Епископ заказывает надгробный камень», «Мистер Сладж, медиум» и др.). А именно: выставляя в качестве исповедующегося героя человека с духовно-нравственным недугом, Джеймс создает фигуру «ненадёжного рассказчика». Описывая мучающую его/её неприглядную тайну в присутствии молчаливого слушателя (или слушателей), этот герой или героиня погружается в многочисленные оправдания, в которых много логических ошибок, недомолвок, ассоциативных связей, а также присутствуют красноречивые попытки убедить собеседника в своей правоте при полном отсутствии достаточной фактической основы. Рассказчик невольно обнаруживает свои отрицательные стороны (например, неумение принять альтернативную точку зрения и собственные проступки, неправота, эмоциональная неустойчивость, предвзятость, навязчивые идеи и пр.), а также ссылается на сверхъестественные явления.
Однако наблюдается и существенная разница в том, как сумма этих приёмов функционирует в драматических монологах и в новелле Джеймса. Если, согласно английской литературной традиции (а позже – и американской в лице Т.С. Элиота и Э. Паунда), в драматическом монологе непременно должна быть представлена речь персонажа, обладающего рядом серьёзных отрицательных качеств и повинного в греходеяниях, то в отношении гувернантки такой определённости нет. Согласно записям Джеймса, у него не было замысла писать её как преступницу. На протяжении повествования читатель видит, как гувернантка старательно выполняет свои обязанности педагога, как по вечерам она часто прогуливается по саду и радуется красоте своего окружения. Очевидно и стремление повествовательницы к самопознанию и самовыражению, что особенно остро ощутимо, когда её исповедь читается публично. Кроме того, согласно английской традиции восприятия драматического монолога предполагается, что говорящий полностью изобличает себя в своем монологе, тогда как в новелле Джеймса существует определённая недосказанность и незавершённость в пользу принципа презумпции невиновности – как в основном сюжете, так и в прологе, что его обрамляет. В новелле Джеймса помимо голоса гувернантки присутствует ещё и голос другого рассказчика – «автора» новеллы. Оба голоса порой сливаются так, как будто всезнающий «автор» заглядывает в мысли персонажа, передавая их спонтанность и многонаправленность, что демонстрирует действие техники «потока сознания» (термин “stream of consciousness”, кстати сказать, приписывают брату романиста, Уильяму Джеймсу, автору работы “The Principles of Psychology”, 1890). Такие качества, как особая ритмическая организация новеллистического текста и его нарочитое усложнение образными ассоциациями, выходят за пределы традиционной викторианской прозы и наделяют новеллистический эксперимент Г. Джеймса «предмодернистским» характером.
1 В оригинале: “The charm of all these things for the distracted modern mind is in the clear field of experience, as I call it, over which we are thus led to roam; an annexed but independent world in which nothing is right save as we rightly imagine it” (здесь и далее текст цит. по: [1]; подстрочники мои. – А.Л.).
2 Например, в эссе 1884 г. “The Art of Fiction” / «Искусство прозы» (перевод Н. Анастасьева, см.: [2]).
3 Букв.: “I was in receipt in these days of disturbing letters from home, where things were not going well” [p. 20].
4 “…many particulars of the whimsicalbent of my father” [p. 51].
5 “Retrace today the strange steps of my obsession” [p. 52].
6 “It was a pleasure at these moments to feel myself tranquil and justified; doubtless, perhaps, also to reflect that by my discretion, my quiet good sense and general high propriety, I was giving pleasure – if he ever thought of it! – to the person to whose pressure I had yielded” [p. 15].
7 “They were too beautiful to be posted; I kept them myself; I have them all to this hour” [p. 54].
8 “…and for the fine machinery I had set in motion to attract his attention to my slighted charms” [p. 50].
9 “I remember the whole beginning as a succession of flights and drops, a little see-saw of the right throbs and the wrong” [p. 6].
10 “The most agreeable woman… she’d have been worthy of any whatever” [p. 2].
11 “His little heart, dispossessed, had stopped” [p. 88]; курсив в подстрочнике мой. — А.Л.
12 “She had never told anyone. It wasn’t simply that she said so, but that I knew she hadn’t. I was sure; I could see. You’ll easily judge why when you hear” [p. 2].
13 “I had made her a receptacle of lurid things, but there was an odd recognition of my superiority – my accomplishments and my function – in her patience under my pain. She offered her mind to my disclosures as, had I wished to mix a witch’s broth and proposed it with assurance, she would have held out a large clean saucepan” [p. 46].
14 “I jumped to my feet again and was conscious of darkness” [p. 65].
15 “I seemed to float not into clearness, but into a darker obscure, and within a minute there had come to me out of my very pity the appalling alarm of his being perhaps innocent. It was for the instant confounding and bottomless, for if he were innocent, what then on earth was I?” [p. 87].
16 “David playing to Saul could never have shown a finer sense of the occasion” [p. 66].
Sobre autores
A. Lugovtsova
A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Autor responsável pela correspondência
Email: winchester_alex@rambler.ru
Postgraduate Student
Rússia, MoscowBibliografia
- James, Henry. The Turn of the Screw: an Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Essays in Criticism. A Norton Critical Edition of “The Turn of the Screw.” Ed. Robert Kimbrough. New York, London: W.W. Norton & Company, 1966. 276 p.
- Джеймс Г. Искусство прозы (эссе, перевод Н. Анастасьева) // Писатели США о литературе: в 2 томах. М.: Прогресс, 1982. Т. 2. С. 127–164. [James, H. Iskusstvo prozy (esse, perevod N. Anastasyeva) [The Art of Fiction, Essay, Translated by N. Anastasiev]. Pisateli SShA o literature: v 2 tomakh [Writers of the USA about Literature: in 2 Volumes]. Moscow: Progress Publ., 1982, Vol. 2, pp. 127–184. (In Russ.)]
- Коренева М.М. Генри Джеймс // История литературы США / гл. ред. Я.Н. Засурский. Т. IV: Литература последней трети XIX в.: 1865–1900 (становление реализма) / отв. ред. П.В. Балдицын. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 441–481. [Koreneva, M.M. HenryJames [HenryJames]. Istoriya literatury SShA. T. IV: Literatura posledney treti XIX v.: 1865–1900 (stanovleniye realizma) [History of Literature of the USA. Gen. ed. Ya.N. Zasursky. Vol. IV: Literature of the Last Third of the 19th Century: 1865–1900 (The Formation of Realism). Ed. P.V. Balditsyn]. Moscow: IMLI RAN Publ., 2003, pp. 441–481. (In Russ.)]
- Урнов Д.М. «Точное слово» и «точка зрения» в англо-американской повествовательной прозе // Типология стилевого развития XIX века: сб. ст. / АН СССР, Институт мировой лит. им. А.М. Горького; отв. ред. Н.К. Гей. М.: Наука, 1977. С. 340–360. [Urnov, D.M. “Tochnoye slovo” i “tochka zreniya” v anglo-amerikanskoy povestvovatelnoy proze [“The Exact Word” and “Point of View” in Anglo-American Narrative Prose]. Tipologiya stilevogo razvitiya XIX veka [Typology of Style Development of the 19th Century: Collection of Articles]. USSR Academy of Sciences, A.M. Gorky Institute of World literature. Ed. N.K. Gey. Moscow: NaukaPubl., 1977, pp. 340–360. (In Russ.)]
- Халтрин-Халтурина Е.В. Переосмысление поэзии Браунингов на страницах неовикторианских романов // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 5. С. 78–86. [Haltrin-Khalturina, E.V. Pereosmysleniye poezii Brauningov na stranitsakh neoviktorianskikh romanov [Revisiting the Brownings’ Poetry in the Pages of Neo-Victorian Novels]. Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 5, pp. 78–86. (In Russ.) doi: 10.31857/S160578800028329-7].
- Cargill, Oscar. “The Turn of the Screw” and Alice James. A Norton Critical Edition of “The Turn of the Screw.” Ed. Robert Kimbrough. New York, London: W.W. Norton & Company, 1966, pp. 145–165.
- Garratt, Robert F. “Browning’s Dramatic Monologue: The Strategy of the Double Mask”. Victorian Poetry. Vol. 11, No. 2, 1973, pp. 115–125.
- Heilman, Robert. The Turn of the Screw as Poem. A Casebook on Henry James’s “The Turn of the Screw.” Ed. Gerald Willen. New York: Thomas Y. Crowell, 1969, pp. 174–188.
- Hughes, Linda K. Dramatic Monologue. The Cambridge Introduction to Victorian Poetry. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010, pp. 15–21.
- Jones, Alexander E. Point of View in the Turn of the Screw. A Casebook on Henry James’s “The Turn of the Screw.” Ed. Gerald Willen. New York: Thomas Y. Crowell, 1969, pp. 298–318.
- Landow, George P. Porphyria’s Lover – A Case study in what counts as evidence and where the ambiguities arise in dramatic monologues. URL: https://victorianweb.org/authors/rb/porphyria/porphyriagpl.html
- Langbaum, Robert. The Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition. New York: Random House, 1957. 246 p.
- Lydenberg, John. The Governess Turns the Screws. A Casebook on Henry James’s “The Turn of the Screw.” Ed. Gerald Willen. New York: Thomas Y. Crowell, 1969, pp. 273–290.
- McDonell, Jennifer. Henry James, Literary Fame, and the Problem of Robert Browning. Critical Survey. Vol. 27, No. 3, 2015, pp. 43–62.
- Nardin, Jane. “The Turn of the Screw”: The Victorian Background. Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal. Vol. 12, No. 1. University of Manitoba, 1978, pp. 131–142.
- Pearsall, Cornelia D. The dramatic monologue. The Cambridge Companion to Victorian Poetry. Ed. J. Bristow. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000, pp. 67–88.
- Posnock, Ross. Henry James and the Problem of Robert Browning. Athens: University of Georgia Press, 1985. 232 p.
- Solomon, Eric. “The Return of the Screw”. A Norton Critical Edition of “The Turn of the Screw.” Ed. Robert Kimbrough. New York, London: W.W. Norton & Company,1966, pp. 237–245.
- Spilka, Mark. Turning the Freudian Screw: How Not to Do It. A Norton Critical Edition of “The Turn of the Screw.” Ed. Robert Kimbrough. New York, London: W.W. Norton & Company, 1966, pp. 245–253.