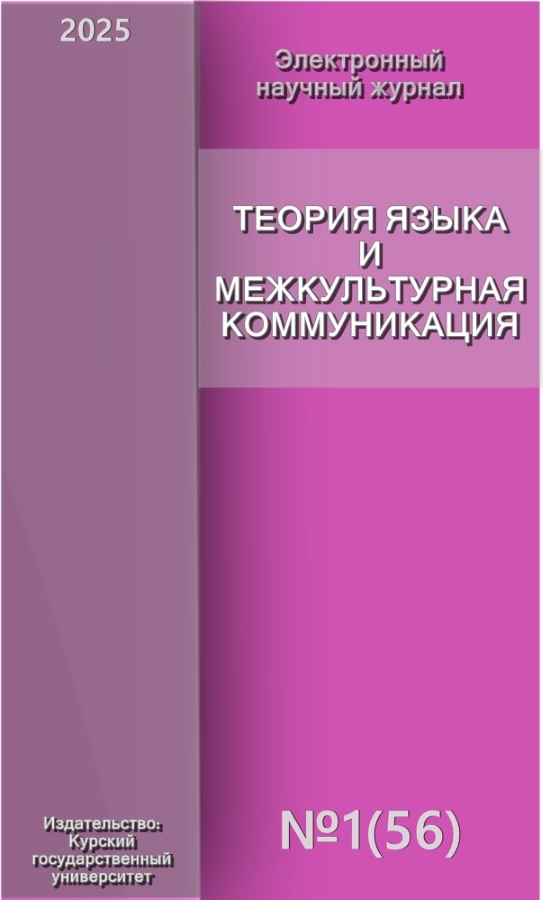Features of the functioning of impersonal and infinitive constructions in the lyric-epic cycle of miniatures by I.S. Turgenev "Poems in Prose"
- Authors: Kolyhanova Е.G.1
-
Affiliations:
- Oryol State University named after I.S. Turgenev
- Issue: Vol 56, No 1 (2025)
- Pages: 119-130
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2219-8660/article/view/291122
- ID: 291122
Cite item
Abstract
This article examines the features of the use of impersonal and infinitive constructions recorded in I. S. Turgenev's lyric-epic cycle "Poems in Prose". The purpose of the article is to consider the structural and semantic varieties of impersonal and infinitive sentences functioning in the cycle of "Poems in prose", to determine how in these constructions the semantic meaning of the main member of the sentence conveys the inner state of the author.
Based on the analysis of the factual material, which made it possible to identify all the cases of the use of the analyzed structures, a conclusion was drawn about the peculiarities of the functioning of impersonal and infinitive sentences in the lyrical and epic miniatures of the great writer.
Full Text
Введение
Известно, что литературное наследие великого русского писателя И.С. Тургенева отличается жанровым разнообразием. Прозаик создавал романы и повести, рассказы и пьесы и т.д. Но особого внимания заслуживает лиро-эпический цикл «Стихотворения в прозе», где писатель стремился отразить свои философские и творческие взгляды, внутренние переживания, соединив эпос и лирику. Специфика этого жанра заключается в том, что это лиро-эпические произведения в прозаической форме, имеющие свои стилистические и композиционные особенности, которым свойственна актуальная тематика для того исторического периода, когда творец создавал свои сочинения.
В подзаголовке «Стихотворений в прозе», названных писателем как «Seniliа» (старческое), (существует и другое наименование: «Posthuma», т.е. «посмертное»), передается субъективное и эмоциональное отношение автора к окружающему миру. В период, когда создавались эти лиро-эпические миниатюры, И.С. Тургенев был неизлечимо болен, что объясняет его мотив о закономерностях судьбы и неотвратимости смерти («Разговор», «Старуха», «Черепа»). В «Стихотворениях…» также рассматриваются нравственные и психологические проблемы, здесь проявляется свойственный писателю интерес к различным вопросам бытия, что находит отражение в его раздумьях о смысле жизни, дружбе и любви, молодости и старости, добре и зле, прошлом и настоящем («Голуби», «Лазурное царство», «Два брата», «Как хороши, как свежи были розы», «Милостыня», «О моя молодость», «Старик» и др.). Даже названия некоторых стихотворений («Последнее свидание», «Когда меня не будет», «Когда я один») передают настроение автора, выражают его мысли о неизбежности ухода из жизни и «постылой тишине одиночества». Однако не все произведения цикла проникнуты пессимистическими нотами, в «Стихотворениях в прозе» не менее сильно звучит тема всепобеждающей любви, молодости, постоянно обновляющейся жизни, здесь говорится о силе прекрасного, искусстве и вдохновении («Воробей», «Мы еще повоюем», «У-а…У-а» и другие). Эти прозаические миниатюры отличаются краткостью и завершенностью художественной формы, здесь используется образность, игра слов, иносказание.
Как справедливо отмечает В.Р. Щербина, «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева «глубоко лиричны, воспоминания, поэтические видения соседствуют в них с философскими аллегориями, грустные размышления о быстротечности жизни и неотвратимой смерти – с прославлением любви, красоты и искусства» [Щербина 1991: 49].
Предметом настоящего исследования являются безличные и инфинитивные предложения, используемые в лиро-эпическом цикле «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева.
Вопросы теории безличных и инфинитивных конструкций, их грамматические, семантические и стилистические особенности анализировались в работах таких ученых, как А.А. Шахматов [Шахматов 2001], А.М. Пешковский [Пешковский 2001], Е.М. Галкина-Федорук [Галкина-Федорук 2012], П.А. Лекант [Лекант 1994], В.В. Бабайцева [Бабайцева 2004] и других.
Цель настоящей статьи – рассмотреть структурно-семантические разновидности безличных и инфинитивных предложений, функционирующих в цикле «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева, выявить, как в этих конструкциях смысловое значение главного члена предложения передает внутреннее состояние великого писателя.
Интерес к данной проблеме объясняется тем, что исследуемые бесподлежащные (бессубъектные) конструкции, которые по своему характеру не имеют конкретного производителя, выражают различные смысловые оттенки.
Общепризнанно, что семантика безличных предложений выражается в обозначении различного вида состояния: психического, физического, окружающей среды, долженствования и необходимости, чувственного восприятия и т.д. В инфинитивных конструкциях могут передаваться различные модальные значения: возможности, невозможности, неизбежности и целесообразности действия и т.д.
Поскольку в миниатюрах И.С. Тургенева основной акцент делается на передаче внутреннего состояния автора или героя, то мы считаем целесообразным рассмотреть особенности функционирования безличных и инфинитивных структур в цикле «Стихотворений …» великого мастера слова, что придает значимость данному исследованию.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили лиро-эпические миниатюры из цикла И.С. Тургенева «Стихотворения в прозе» [Тургенев 1982].
Если говорить о методах исследования, то следует учитывать совокупность приемов изучения языковых явлений, а также методику использования этих приемов.
В нашей работе применялись следующие методы:
1) Метод лингвистического наблюдения и описания, построенный на индукции: от анализа языковых фактов, их сопоставления и обобщения к выводам;
2) Метод сплошной выборки языковых единиц, который позволяет зафиксировать все анализируемые конструкции;
3) Качественно-количественный метод. В работе представлены не только элементарные подсчеты, но и сделан анализ качественных признаков языков структур.
Результаты
Наша выборка показывает, что в 83 стихотворениях в прозе встретилось 153 примера безличных и 29 инфинитивных конструкций.
Говоря о безличных предложениях, М.В. Захарова отмечает следующее: «Человек как субъект сознания в безличных предложениях с конкретной физической средой проявления занимает позицию наблюдателя. В безличных предложениях с психофизической средой проявления признака субъект сознания занимает позицию «чувствующего» субъекта. Субъект сознания отображает внеязыковые ситуации в сенсорном, интеллектуальном и эмоциональном ракурсах» [Захарова 2004: 5].
В анализируемых примерах в качестве главного члена предложения выступают слова категории ?? состояния: …смутно было на душе («Голуби») [Тургенев 1982: 163]; Мне смешно («Кубок») [Тургенев 1982: 178]; безличные глаголы: Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате («Насекомое») [Тургенев 1982: 151]; И между тем человеку хочется существовать («Завтра, завтра!») [Тургенев 1982: 164]; отрицательное слово нет: И вот теперь у него нет куска хлеба – и все его покинули («Милостыня») [Тургенев 1982: 150], единичными примерами представлены конструкции, где главный член выражен словом категории состояния пора, которое по своему образованию соотносится с именем существительным: И не пора ли и мне упасть в море («Без гнезда») [Тургенев 1982: 178], и кратким страдательным причастием: Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей («Повесить его») [Тургенев 1982: 165].
Проанализированные нами безличные предложения по структуре представляют собой нераспространённые: – Пора вздремнуть. – Пора. («Разговор») [Тургенев 1982: 128] и распространенные простые конструкции: Мне тошно на сердце от этого писка («Конец света») [Тургенев 1982: 134], а также могут входить в состав сложного предложения: Мне начало казаться, что старушка не идет только за мною, но что она направляет меня («Старуха») [Тургенев 1982: 128].
В исследуемых структурах нам встретились простые сказуемые: Мне снилось: я шел по широкой голой степи («Встреча») [Тургенев 1982: 173]; составные именные с нулевой связкой или материальной выраженной: Как Вам не стыдно («Дурак») [Тургенев 1982: 137]; И мне вдруг стало жутко («Христос») [Тургенев 1982: 162]; составные глагольные, где в качестве вспомогательного компонента выступают безличные глаголы или слова категории состояния: И между тем человеку хочется существовать, он дорожит жизнью («Завтра, завтра») [Тургенев 1982: 164], …пора разбить стесняющий сосуд («У-А…У-А…») [Тургенев 1982: 188].
Примеры безличных предложений зафиксированы как в авторском повествовании, так и в речи персонажей.
Так, Е.С. Лютова верно подчеркивает, что «семантико-стилистические возможности безличных предложений разных типов необыкновенно широки; особенно распространены они в художественной литературе, которая постоянно обогащается фактами разговорного языка. Посредством безличных конструкций возможно описать такие состояния, которые характеризуются неосознанностью, немотивированностью, неподконтрольностью (ср: не хочу – осознанное нежелание; не хочется – неосознанное нежелание») [Лютова 2010: 15].
Кроме безличных предложений, в лиро-эпических миниатюрах И.С. Тургенева нами зафиксированы инфинитивные конструкции. Необходимо подчеркнуть, что в лингвистике нет единого мнения на вопрос о выделении инфинитивных структур в системе типов односоставных предложений: такие ученые, как А.А. Шахматов [Шахматов 2001] и Е.М. Галкина-Федорук [Галкина-Федорук 2012], рассматривают эти предложения в составе безличных на том основании, что главный член-сказуемое не способен сочетаться с субстантивом в именительном падеже.
Впервые инфинитивные структуры как самостоятельный тип односоставных предложений в синтаксисе русского языка выделяет А.М. Пешковский [Пешковский 2001]. Вслед за ним эти предложения как самостоятельную разновидность односоставных конструкций стали рассматривать К.А. Тимофеев [Тимофеев 1951], Г.А. Золотова [Золотова 2004], П.А. Лекант [Лекант 1994], В.В. Бабайцева [Бабайцева 2004] и другие.
Как и в безличных структурах, в этих предложениях нет и не может быть подлежащего, сходство этих синтаксических единиц заключается также в том, что здесь все сосредоточенно на действии и оценке условий и возможностей его реализации. Оба эти типа односоставных предложений способны выражать различные модальные значения: необходимости, долженствования, желательности, невозможности и др. Однако особенностью инфинитивных структур является то, что здесь категория модальности характеризуется субъективностью и поэтому часто сопровождается эмоциональностью и экспрессивностью. Так, например, в конструкциях со значением необходимости или желательности проявляется воля или желание говорящего, связанные с тем, чтобы кто-то совершил какое-либо действие, а в предложениях, имеющих значение неизбежности или невозможности, – уверенности говорящего в возможности или невозможности совершения действия.
Но в то же время эти конструкции отличаются своим категориальным значением. Так, Е.С. Скобликова отмечает, что «в безличных предложениях условия и возможности совершения действия оцениваются только в порядке простой констатации. В инфинитивных предложениях перспектива действия характеризуется с выявлением активного волевого или эмоционального отношения говорящего. Почти всегда они раскрывают деятельный поиск решений: побуждение к действию; вопросы с целью выяснить целесообразность действия или условий его совершения; экспрессивное утверждение его желаемости, целесообразности или, наоборот, необходимости, невозможности. В связи с этим инфинитивные предложения отличаются от безличных большей специализированностью целевого назначения: многие из них употребляются только в побудительном, вопросительном, повествовательном или желательном (оптативном) значении. Именно с различиями коммуникативного назначения связаны разновидности инфинитивных предложений» [Скобликова 2018: 154].
В.В. Бабайцева, говоря об отличии безличных и инфинитивных структур, указывает на то, что «характер деятеля в инфинитивных предложениях имеет семантико-стилистическое значение, а в безличных предложениях неопределенность производителя действия имеет структурно-синтаксическое значение» [Бабайцева 2004: 111].
Как и безличные, инфинитивные предложения различны по структуре и семантике. Зафиксированные нами примеры инфинитивных предложений могут представлять нераспространенные: Что же делать? Скорбеть? Горевать? («Старик») [Тургенев 1982: 154] и распространенные простые предложения: Как мне освободиться от этой жалости? («Мне жаль») [Тургенев 1982: 174] и входить в состав придаточной части сложноподчиненного предложения: О чем твоя дума? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и счастья? («Природа») [Тургенев 1982: 165]. Выбранные примеры так же, как и безличные предложения, встретились в авторском повествовании и в речи персонажей.
Обсуждение результатов
Анализ примеров подтверждает, что наиболее частотными являются безличные конструкции, где в качестве сказуемого выступают слова категории состояния (62 случая), которые имеют различную семантику:
1) Обозначают психическое состояние человека: вольно, хорошо, смешно, горько, стыдно, жалко и др. Необходимо обратить внимание, что в текстах «Стихотворений в прозе» в основном встречаются предикаты, обозначающие внутреннее состояние человека и имеющие отрицательную коннотацию. Например: И горько ему было на сердце и стыдно («Милостыня») [Тургенев 1982: 150]. Невесело, брат, ни тебе, ни мне – в постылой тишине одиночества («Когда я один...») [Тургенев 1982: 184]. Так, в лирической миниатюре «Мне жаль…» (само название представляет собой безличное предложение), где звучит мотив покаяния, автор использует такую стилистическую фигуру, как анафора: Мне жаль самого себя, других, всех людей… Мне жаль детей и стариков… Мне жаль победоносных и торжествующих людей [Тургенев 1982: 184]. Употребляя в качестве единоначалия бессубъектные структуры, писатель тем самым усиливает чувство сожаления и грусти.
Положительное качественное состояние, выраженное словами категории состояния, в наших выборках представлено лишь тремя примерами, но если обратиться к контексту, то также можно почувствовать настроение печали и одиночества. Например: Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них… Хотя я и один… один, как всегда («Голуби») [Тургенев 1982: 164]. Мне смешно…, и я дивлюсь на самого себя. Непритворна моя грусть, мне действительно тяжело жить, горестны и безотрадны мои чувства («Кубок») [Тургенев 1982: 178].
2) Малочисленными примерами представлены конструкции, где безлично-предикативные слова обозначают состояние природы и окружающей среды: бело, опрятно, спокойно, душно, тяжко, темно и др. Например: Как душно! Как томно! Как тяжело! («Конец света») [Тургенев 1982: 134]. В комнате было ни темно, ни светло; я принялся глядеть в седой полумрак («Соперник») [Тургенев 1982: 130]. В этой группе предикатов, как и при характеристике слов, обозначающих психическое состояние человека, превалируют лексемы с отрицательной качественной семантикой; тем самым писатель подчеркивает, как ощущение окружающей среды связано для него с эмоциональным состоянием.
В цикле «Стихотворений в прозе» зафиксированы конструкции, в которых слова категории состояния используются в простой сравнительной степени: видней, легче, лучше, удобнее, яснее. Например: По крайней мере он теперь не страдает! Теперь ему легче! «Враг и друг» [Тургенев 1982: 161]. А в комнате все темней да темней («Как хороши, как свежи были розы!») [Тургенев 1982: 168].
3) Третью группу представляют слова категории состояния, выражающие модальное значение долженствования, необходимости, возможности-невозможности: надо, нужно, можно, нельзя, которые употребляются как в сочетании с инфинитивом, так и без него. Данные конструкции могут иметь и положительную и отрицательную модальность. Например: Любовь и голод – цель их одна: нужно, чтобы жизнь не прекращалась… («Два брата») [Тургенев 1982: 156]. Мне не надо ни благодарности, ни сожаления («Порог») [Тургенев 1982: 148]. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! («Русский язык») [Тургенев 1982: 172].
В текстах лиро-эпических миниатюр зафиксированы односоставные конструкции с главным членом – собственно безличным глаголом: снится, спится, хочется или личным глаголом в безличном значении: вспомнилось, пахнет, показалось. В нашей выборке предложения с безличным глаголом-сказуемым представлены 38 примерами и так же, как и конструкции со словами категории состояния, имеют различные смысловые оттенки. Сказуемые в этих структурах могут быть выражены возвратными и невозвратными формами настоящего и прошедшего времени. Нам встретились следующие группы по значению:
1) Безличные глаголы, обозначающие мыслительную деятельность человека: думается, сдается, а также то, что представляется воображению, связано с недостоверным восприятием действительности: кажется, чудится и др. Например: И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и все, чего добиваемся мы, городские люди? («Деревня») [Тургенев 1982: 126]; А мне казалось, что надо дать этому вину вылиться наружу («У-А…У-А…») [Тургенев 1982: 188]; Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою («Последнее свидание») [Тургенев 1982: 146]; Мне сдается: стоит возле моей кровати та неподвижная фигура («Песочные часы») [Тургенев 1982: 146]. Следует обратить внимание на то, что в «Толковом словаре русского языка» ? С.И. Ожегова и Н.?Ю. Шведовой безличный глагол сдается имеет помету «просторечное» и представлен в значении «думаться, казаться» [Ожегов, Шведова 2015: 676].
2) Безличные глаголы, обозначающие предрасположенность к физическим действиям и состояниям: спится, хочется и др. Например: Опять я лежу в постели…опять мне не спится («Дрозд II») [Тургенев 1982: 175]; Но мне неловко с ним, и не хотелось бы иметь такого свидетеля моей внутренней жизни («Когда я один...») [Тургенев 1982: 184].
3) Личные глаголы в безличном значении, передающие ощущение обоняния: отдает, пахнет. Например: Словно железом от них отдает («Чернорабочий и белоручка») [Тургенев 1982: 144]. Но чуялась близость пробуждения – и в поредевшем воздухе пахло жестокой сыростью росы («Посещение») [Тургенев 1982: 148].
4) Встретился один случай, когда безличный глагол, употреблен в переносном значении: Например: Я был любим! Дышало счастьем все кругом, но сердце не нуждалось в нем («Я шел среди высоких гор») [Тургенев 1982: 181].
Оттенок неуверенности вносит в безличную конструкцию вопросительная частица ли. Например: Да и стоит ли горевать и томиться («Дрозд I») [Тургенев 1982: 176]. В данном случае безличный глагол стоит эквивалентен по значению словам категории состояния нужно, надо. Ср.: Да и нужно ли горевать…
Обратим внимание, что в текстах «Стихотворений…» не встретились глаголы с семантикой характеристики окружающей среды и явлений природы, долженствования, конкретного и стихийного действия и т.д. В своих миниатюрах И.С. Тургенев больше использует безличные формы глаголов, обозначающих внутреннее состояние человека, что также отражает жанровую специфику анализируемых произведений.
В нашей выборке зафиксированы безлично-генитивные конструкции, где в качестве предиката выступают отрицательные слова нет, не было в сочетании с родительным падежом существительного. Например: Я понимаю, что в это мгновенье и в ней, и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы («Собака») [Тургенев 1982: 129]; Все дерево слабо шумело, хотя и не было ветра («Восточная легенда») [Тургенев 1982: 139].
А.М. Пешковский, рассматривая предложения такого типа, объясняет, что безличное значение у этих конструкций возможно только при наличии отрицания, «по устранении отрицания они переходят в личные: не было ни гроша – был грош, причем на месте родительного оказывается п о д л е ж а щ е е. Таким образом, отсутствие подлежащего связано здесь именно с этим родительным, а сам родительный с отрицанием» [Пешковский 2001: 366].
Отсутствие сказуемого нет приводит к структурной неполноте, что является типичным явлением для безличных предложений. Нам встретились такие примеры. Например: Я стал шарить у себя во всех карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка («Нищий») [Тургенев 1982: 132]; Но там за окном только деревья шумели. Ни звезды на небе, ни огонька на земле («Я встал ночью») [Тургенев 1982: 183].
По сравнению с безличными предложениями, инфинитивные конструкции в текстах «Стихотворений в прозе» менее частотны (как уже отмечалось, наша выборка насчитывает всего 29 примеров). Если говорить о семантических особенностях этих структур, то можно выделить следующие группы:
- Вопросительные инфинитивные предложения, среди которых выделяются собственно вопросительные и риторические, причем предложения могут иметь в своем составе вопросительные местоимения и наречия или эти лексемы могут отсутствовать. Например: Как мне освободиться от этой жалости? («Мне жаль») [Тургенев 1982: 184]; Такие стихи – да и не запомнить? («Два четверостишья») [Тургенев 1982: 141].
Приведенные примеры показывают, что такие вопросы являются итогом авторских размышлений, обращением героя к самому себе, представляют собой внутренний диалог, что также отражает настроение писателя.
- Предложения со значением желательности действия, где обязательно должна присутствовать частица бы, которая употребляется при условно-предположительной возможности действия. Например: Ах, как бы уйти отсюда («Конец света») [Тургенев 1982: 134]; Я думаю о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее было спасаться от врагов своих («Природа») [Тургенев 1982: 165].
- Инфинитивные предложения в составе сложноподчиненного предложения с придаточным цели. Например: В нем было все нужное для того, чтобы сделаться бичом своей семьи («Эгоист») [Тургенев 1982: 156].
В текстах «Стихотворений…» зафиксировано по одному примеру, где инфинитив выражает: а) сомнение и нерешительность: «Не уйти! Не уйти! Что за сумасшествие! Надо попытаться» («Старуха») [Тургенев 1982: 129]; б) императивное значение: – Повесить его! («Повесить его») [Тургенев 1982: 166].
Как правило, инфинитивные конструкции отличаются своей стилистической принадлежностью к разговорному стилю и, в отличие от безличных, более экспрессивны, однако в нашей выборке зафиксирован единичный пример, в котором словосочетание память почтить относится к высокому стилю (в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н. ?Ю. Шведовой глагол почтить имеет значение «оказать честь, почет; почтение кому-нибудь» [Ожегов, Шведова 2015: 550]). Например: Никто не будет знать, чью память почтить! («Порог») [Тургенев 1982: 148].
Заключение
Таким образом, исследуемый материал показал, что особенности употребления безличных и инфинитивных конструкций в тексте лиро-эпических миниатюр могут быть объяснены как индивидуальными особенностями стиля И.С. Тургенева, так и спецификой лиро-эпического жанра, где, с одной стороны, дается сюжетное повествование, а с другой, присутствует определенная эмоциональная (лирическая) оценка автора.
К особенностям функционирования безличных и инфинитивных предложений в цикле «Стихотворения в прозе» можно отнести следующее:
1) Эти предложения достаточно частотны в текстах, отличаются своим структурно-семантическим разнообразием.
2) Безличные конструкции представлены различными способами выражения главного члена предложения (словами категории состояния, безличными глаголами, отрицательным словом нет).
Наиболее частотными среди бесподлежащных конструкций являются структуры, в которых в качестве сказуемого выступают слова категории состояния с отрицательной коннотацией, указывающей на внутреннее состояние человека. Если говорить о безлично-предикативных словах, обозначающих состояние окружающей среды, то здесь также доминируют слова с отрицательным качественным значением. Именно слова категории состояния как нельзя лучше передают субъективные ощущения автора, его настроение и мысли, связанные с тяжелой болезнью, одиночеством, неизбежностью ухода из жизни.
Встретившиеся нам конструкции, где главный член выражен безличным глаголам, также отличаются своим семантическим разнообразием и в большинстве своем связаны с обозначением физического и психического состояния человека.
3) Инфинитивные конструкции, зафиксированные в нашей выборке, характеризуются разнообразием своих модальных значений. Это вопросительные структуры, а также предложения со значением желательности, побуждения, сомнения и нерешительности.
About the authors
Е. G. Kolyhanova
Oryol State University named after I.S. Turgenev
Author for correspondence.
Email: elena.kolyhanova@yandex.ru
Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Theory and Methodology of Primary General education,
Russian Federation, OryolReferences
- Babaitseva V.V. Sistema odnosostavnykh predlozhenii v sovremennom russkom yazyke: monografiya. M.: Drofa, 2004. 512 s.
- Galkina-Fedoruk E.M. Bezlichnye predlozheniya v sovremennom russkom yazyke. M.: Knizhnyi dom «LIBROKOM», 2012. 336 s.
- Zakharova M.V. Semantika bezlichnykh predlozhenii: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M. 2004. 24 s.
- Zolotova G.A. Kommunikativnaya grammatika russkogo yazyka. M.: Institut rus. yaz. RAN im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s.
- Lekant P.A. K voprosu o kategorii bezlichnosti v russkom yazyke // Tendentsii razvitiya grammaticheskogo stroya russkogo yazyka. M.: MPU, 1994. - S.3-8.
- Lyutova E.S. Vyrazhenie fazisnoi semantiki v bezlichnom predlozhenii: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M., 2010. 19 s.
- Ozhegov S.I., Shvedova I.YU. Tolkovyi slovar' russkogo yazyka: 1200 slov i frazeologicheskikh vyrazhenii / Rossiiskaya akademiya nauk. Institut russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova. M.: A Temp, 2015. 896 s.
- Peshkovskii A.M. Russkii sintaksis v nauchnom osveshchenii. M.: Yazyki slavyanskoi kul'tury, 2001. 544 s.
- Skoblikova E.S. Sovremennyi russkii yazyk. Sintaksis prostogo predlozheniya (teoreticheskii kurs). M.: Flinta, 2018. 321s.
- Timofeev K. A. Infinitivnye predlozheniya v russkom yazyke: avtoref. …dis. dokt. filol. nauk. Blagoveshchensk-na-Amure, 1951. 28 s.
- Turgenev I.S. Polnoe sobranie sochinenii i pisem v 30 tomakh. T.10. M.: Nauka, 1982. S. 125-189.
- Shakhmatov A.A. Sintaksis russkogo yazyka. M.: Ehditorial URSS, 2001, 624 s.
- Shcherbina V.R. Turgenev // Istoriya vsemirnoi literatury. V 9 t. T. 7. M.: Nauka, 1991. – S. 49.
Supplementary files