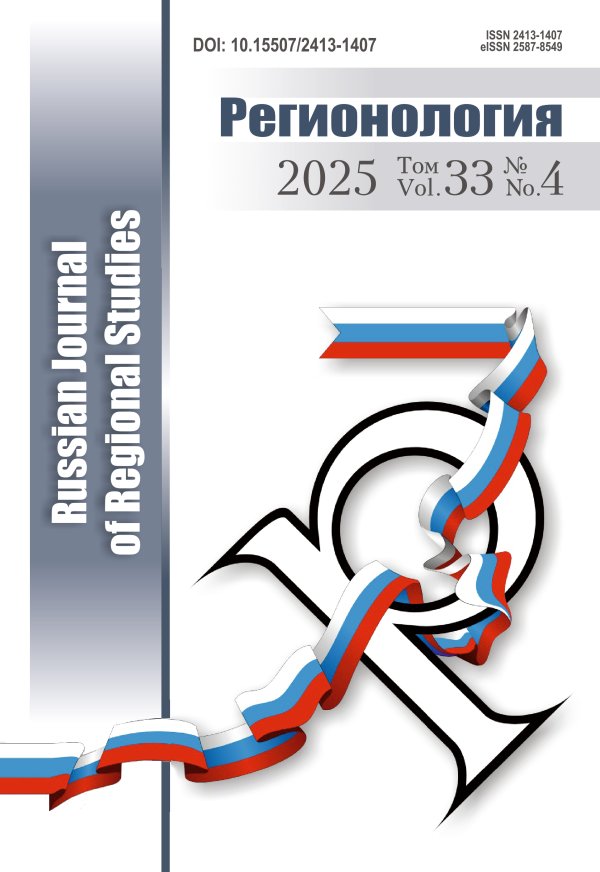Традиционализм в государственном управлении Китая: региональная специфика
- Авторы: Кремнёв Е.В.1,2, Дерюгин П.П.3,4,2, Лебединцева Л.А.3,2, Кузнецова О.В.1,2
-
Учреждения:
- Иркутский государственный университет
- Социологический институт РАН Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
- Выпуск: Том 32, № 4 (2024)
- Страницы: 673-690
- Раздел: Социология управления
- Статья получена: 13.10.2024
- Статья одобрена: 21.10.2024
- Статья опубликована: 23.12.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/2413-1407/article/view/266115
- DOI: https://doi.org/10.15507/2413-1407.129.032.202404.673-690
- ID: 266115
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Актуальность исследования обусловлена возрастающей значимостью и влиянием глобальных и региональных процессов на управленческие процессы. Цель исследования ‒ установить и описать регион-специфичные процессы системной диффузии традиционализма в процессы государственного управления в Китае как регионе ‒ участнике глобальных и трансрегиональных отношений.
Материалы и методы. Исследование базируется на концепции социальной организации традиции социолога Р. Редфилда, который разграничивал «большую» и «малую» традиции, и адаптации этой концепции в китайской социологии. С целью выявления взаимосвязи между традиционализмом и китайской спецификой государственного управления в их историческом аспекте и определения современных регион-специфичных тенденций влияния традиционализма на государственное управление были проанализированы научные исследования китайских социологов.
Результаты исследования. Выявлены системные характеристики традиционализма, которые рассматриваются через два взаимосвязанных измерения: философское, определяющее ценностные ориентиры общества, и практическое, которое направлено на обеспечение стабильного социального взаимодействия. Определена роль «большой государственной традиции», которая в современном азиатском регионе на примере Китая проявляется в адаптации традиционных управленческих концепций к современным условиям. Обоснованы пути проникновения традиционных ценностей в политический дискурс и идеологию, при этом подчеркивается, что современный традиционализм не является возвращением к прошлому, а представляет собой инструмент поиска в прошлом аргументов для актуализации современных управленческих концепций.
Обсуждение и заключение. Региональная специфика государственного управления в Китае в значительной степени определяется «большой государственной традицией», которая остается значимым фактором системы управления, влияет на «малую традицию» и ищет способы адаптации под нее. Практическая значимость статьи заключается в возможности использования ее результатов при планировании взаимодействия с административными органами и общественными структурами Китая.
Полный текст
Введение
Традиционализм в качестве ориентации на прошлое [1] представляет одну из самых важных особенностей управленческой мысли в Китае как регионе ‒ участнике глобальных и трансрегиональных отношений. Отношение к традиции, как полагают некоторые исследователи, становится едва ли не основной темой для споров в современном противостоянии между различными субрегионами Востока и Запада [2]. В современной социологии традиции могут пониматься и как «некие единые и постоянные формы поведения человека, общность позиций, ценностей и вкусов» (в определении К. Поппера)[1] и, например, как «социальный механизм накопления, сохранения и передачи от поколения к поколению исторического опыта, социального и культурного наследия, идеалов, социокультурных норм и ценностей, образцов поведения, обычаев, обрядов, постановки и решения возникающих проблем»[2]. И в первой, и во второй форме традиционализм продолжает проявляться в процессах государственного управления в Китае.
В самом общем виде современное китайское государственное управление интегрирует три базовых составляющих: постулаты марксизма, практику рынка и культурные традиции [3]. В настоящем исследовании основное внимание уделяется анализу последней составляющей китайского управления – традиционализму, которое в китайском управлении может одновременно выступать и источником, и продуктом региональной специфики принятия управленческих решений и формирования управленческих структур [4]. Применяя термин «региональная специфика», мы, вслед за Б. Стифтелем и его коллегами, понимаем под ней уникальную совокупность характеристик регионального социума, сложившуюся в результате взаимодействия языковых, географических, культурных и иных факторов вне глобального контекста[3], а под регионом, где сформировалась рассматриваемая в работе специфика – континентальный Китай (не включая в исследование регионы неконтинентального Китая – Тайвань, Гонконг, Макао, где факторы формирования государственного управления были другими в силу иной социальной и политической истории XX в.). Кроме того, к региональной специфике относится также и различное понимание традиции в двух типах регионов, находящихся в дихотомичных отношениях внутри Китая: разницу между центром и периферией, городом и деревней, центром города и пригородом и т. п.
Центральный проблемный вопрос исследования: чем и как обеспечивается устойчивость управления, складывающаяся как результат слияния традиционных отношений и высокой динамики происходящих социальных процессов сегодня, обеспечивающая диверсификацию практики управления? Соответственно, цель исследования – выявить региональную специфику традиционализма как системного явления в процессах государственного управления в Китае, влияющую на выбор стратегий преодоления противоречий между новым и традиционным в управлении, а также определить тенденции развития китайского традиционализма, позволяющие ему оставаться значимым фактором государственного управления. Опираясь на ранее полученные результаты, мы поставили ряд задач, в рамках которых: 1) раскрываются этапы эволюции диффузии традиций и управления; 2) характеризуются уровни связей между традициями и управлением; 3) обобщаются атрибутивные свойства современного регион-специфичного китайского традиционализма; 4) выявляется сочетаемость «большой» и «малой» традиции в управлении. В совокупности решаемых задач формируются основные контуры системного представления о региональной специфике традиционализма и его свойствах в китайском управлении. Гипотетически предполагается, что ответом на поставленные вопросы окажется системный характер взаимодействия китайского традиционализма и китайского управления.
Обзор литературы
Управленческие концепции XX в. все чаще рассматривают государственное управление не как вертикально-иерархичное, а как социально ориентированное [5]. Одним из первых вопрос о социальной ориентации управленческих процессов в социологии поднял Э. Мэйо [6]. Современные управленческие стратегии противопоставляются прежним концепциям начала XX в. Построенные в первую очередь на технобюрократии и монологических вертикальных методах, эти новые стратегии, по мнению Ф. Тенорио, все чаще основываются па партиципативных формах взаимодействия; такое управление стремится к диалогу, включает в процесс принятия решений большее число участников [7; 8]. В таких условиях, отмечает Т. Реддел, перестройки требует не только общество, вовлекаемое в процессы управления, но и государство, меняющее формы взаимодействия с социумом, пересматривающее свою роль и место в управленческой системе [9]. Эти новые стратегии управления заставляют исследователей управленческих процессов все чаще говорить о необходимости поисков новых исследовательских парадигм и даже об эпистемологическом кризисе менеджмента [10].
Именно в таких условиях глобальной перестройки концепции государственного управления Китаю приходится выстраивать управление с региональной спецификой. При этом Китай, с одной стороны, ощущает на себе влияние мировых процессов, с другой – в качестве региона мира и Азиатско-Тихоокеанского региона должен учитывать собственный цивилизационный опыт с учетом текущих внутренних и глобальных интересов.
В этой связи важными в контексте нашего исследования становятся идеи А. И. Кобзева о высокой приспособленности китайской традиционалистски рафинированной духовной культуры к современным общемировым ценностям [11], В. В. Малявина о поэтапном формировании традиционализма как важной составляющей государственной идеологии с древности до наших дней [12], В. В. Бочарова о наличии механизмов инклюзии западных новаций в местные традиционные культуры [2], М. В. Букатой о полиморфизме и синкретизме китайской традиционной культуры[4] и Е. Ю. Русяевой о ключевых факторах управления социальными системами в Китае («зонах притяжения» социальных систем) [13] и др. Таким образом, актуальной на сегодня темой становится выявление соотношения между новыми и традиционными образцами управленческих практик и управленческой культуры современного Китая.
Материалы и методы
В качестве теоретико-методологической основы взята концепция социальной организации традиции социального антрополога Р. Редфилда. Ученый показывает, что традиция всегда структурирована и складывается в систему общества как один из базовых элементов. Традиция сама себя поддерживает, «не нуждающаяся в том, чтобы ее поддерживала комплементарная, реципрокная, субординационная или какая-нибудь иная связь со второй системой» [14]. Традиции разделяются на «большие» и «малые». Под первыми понимаются культурные установки, культивируемые и передаваемые образованными гражданами – преимущественно рационально, чаще они выражают ценности наиболее активной части городского населения; вторые складываются спонтанно, они формируются в иных институциях – в селах, отдаленных регионах, периферийных районах, низовых городских сообществах и других локальных образованиях [14].
В китайской социологии концепция Р. Редфилда получила развитие в рамках теории «большой государственной традиции». В частности, китайский социолог Ян Дунмэй указывает, что данный термин точнее передает эту особенность в Китае, здесь она формируется государственными институтами: ее динамика и содержание неотделимы от деятельности государства по формированию культуры управления[5]. Другими словами, в отличие от типичных для западного социального дискурса дефиниций, в которых ведущая роль отводится самому социуму [15], для китайского социологического поля более свойственны определения, выделяющие особую роль государства в социальных процессах [16].
Другие важные методологические позиции связаны с приведенными в предыдущем разделе положениями о важной роли традиций и традиционализма в китайском управлении, разработанными А. И. Кобзевым, В. В. Малявиным, В. В. Бочаровым, М. В. Букатой, Е. Ю. Русяевой и др.
На основе указанных подходов мы проанализировали вторичные эмпирические данные, полученные из диссертаций китайских социологов по социальному управлению и собранные ими путем применения современных социологических методов (статистический анализ, анкетирование, глубинные интервью, кейс-стади и др.). Для получения необходимых данных методом сплошной выборки из китайской национальной базы данных научных работ нами было отобрано 110 диссертаций по социальному управлению, подготовленных с 2000 по 2023 г.
Результаты исследования
Истоки традиционализма в китайском государственном управлении. Если рассматривать этапы развития государственного управления как процесс смены определенных моделей, то в трактовке исследователя китайского управления Т. В. Колпаковой[6] выделяются четыре таких модели: традиционная (с древнейших времен вплоть до падения династии Цин в 1912 г.), тоталитарная (1949‒1976 гг.), партийная (1976‒2012 гг.) и «современная инновационная модель» (2012 г. ‒ настоящее время).
На первом этапе, самом протяженном, в рамках традиционной модели управления главным связующим звеном традиционализма и государства является то, что функции государственной идеологии выполняли традиционные ценности. Уже в Чжоускую эпоху (XI в. – 221 г. до н. э.) управленческая традиция закрепилась в наиболее важных философских трактатах и в своем кратком виде могла быть сведена к следующим значимым ценностям: высокая нравственность правителя как залог «мандата Неба», т. е. признания законности его правления; ритуальная составляющая образования и воспитания как важнейший инструмент транслирования социальных норм сверху вниз; удовлетворение нужд народа как первая необходимость для правителя; первостепенная значимость культуры для сохранения государства [12].
В полноценную идеологическую доктрину традиционализм как основа управления трансформировался в Ханьскую эпоху. В этот период сложился комплекс официальной идеологии, соединяющий космологические, религиозные (в частности, даосизм) и социально-политические идеи (в первую очередь, конфуцианство и легизм).
Заложенная в эпоху Хань традиционная модель стала основанием для имперского Китая, она была призвана обеспечить устойчивость государственной власти и выполняла эту функцию вплоть до падения последней династии Цин в 1912 г., когда управление начало претерпевать значительные преобразования. Таким образом, за более чем два тысячелетия в Китае сложилась «большая государственная традиция» – приверженность традиционализму, которая культивировалась совместными усилиями государства и образованной знати.
Социальная история Китая XX в. значительно трансформировала подходы к управлению. В этот период в социальном сознании происходят существенные сдвиги, связанные с процессами повышения уровня образования, модернизации, урбанизации. К вертикальной модели управления добавляются горизонтальные стратегии саморегуляции общества [17], при этом за государством сохраняется ведущая роль.
Уровни связей между традицией и управлением. Набор традиционных ценностей в китайском управлении подразумевает приоритет многовековых социальных принципов и ценностей управления, характерных для субрегионов Восточной Азии: социальная иерархия, основанная на сыновней почтительности и уважении старших (по возрасту, социальному статусу, должности и т. п.), избегании открытых конфликтов и приоритете коллектива над индивидуумом[7]. Когда речь идет об устойчивом воспроизведении традиций в управлении, подразумеваются инновационные мутации, возникающие как синергетический эффект слияния различных граней традиционной культуры Китая, одновременно и целостной и полиструктурной: «в ней сосуществует несколько основных направлений в духовной культуре, находящихся во взаимодействии ‒ конфуцианство, даосизм, буддизм, детерминирующих ее полиморфизм и синкретизм»[8]. Новый же тип мутаций – это соединение традиций и новой глобальной и трансрегиональной социальности, влияющей на Китай и проникающей через социальные практики, нарабатывающие новую «малую традицию». В таком случае «большой традиции» приходится следовать за «малой», с одной стороны, ограничивая ее, с другой – адаптируясь под нее.
В этой системе воспроизводство «большой» и «малой традиций» следует воспринимать не как параллельные процессы, а как уровни существования традиционализма: философии – как верхней части традиционализма, – здесь формируется главный ценностный вектор развития общества, и нижней, базовой части – реализуемых в практической жизни ценностных практик. Взаимодействие верхней и нижней частей традиционализма обеспечивает стабильное и устойчивое управление. В связи с этим некоторые специалисты, изучающие китайское государственное управление, например В. С. Морозова[9], указывают, что китайская культура характеризуется длительностью и непрерывностью развития, многообразия, уникального сочетания консервативной замкнутости с толерантностью к культурам других регионов.
Регион-специфичные атрибутивные свойства современного китайского традиционализма: адаптивность, вариативность, итерпретативность и конструированность. Этап зарождения и развития Китайской республики в континентальном Китае в первой половине XX в. китайские исследователи, как правило, определяют как период социально-политического хаоса, при котором отсутствовали относительно сформировавшиеся модели управления. Последовавший следом этап тоталитарной модели управления (1949‒1976 гг.) строился в значительной степени на порицании традиционной культуры, декларирования ее отсталости и невозможности применения в управлении[10]. Речь в первую очередь шла о той части культуры, которая ассоциировалась с «большой государственной традицией»: конфуцианство и другие традиционные управленческие доктрины воспринимались в тот период как оплот свергнутой императорской власти и жестко преследовались. «Малые» же традиции интерпретировались в русле утверждения В. И. Ленина о том, что «в каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую...»[11]. Другими словами, принимались во внимание только те аспекты «малой традиции», которые соответствовали задачам построения социалистического государства. Однако с переходом к партийной модели в 1976 г. ситуация снова поменялась.
С этого периода идеология повторно устанавливает связь с «большой традицией» и преодолевает установку китаизированного марксизма на восприятие традиции как отсталой феодальной морали, созданной для управления массами. Современный китайский марксизм обращается к традиции осторожно и только там, где она подтверждает его положения, а также на уровне создания новых идеологем на основе традиционной терминологии [18]: «среднезажиточное общество» («сяокан», 小康) Дэн Сяопина позаимствовано в 1979 г. из конфуцианской традиции, концепция «управления государством на основе дэ» (以德治国) Цзян Цзэминя опирается на традиционную концепцию нравственности дэ, «гармоничный социализм» Ху Цзиньтао отсылает к социальной гармонии из «Ши цзина» (VI в. до н. э.) и «Чжоу ли» (XI в. до н. э.). На примат традиционной культуры многократно указывает Си Цзиньпин[12], из нее он предлагает «черпать идеи и концепции управления страной»[13]. Таким образом, современная «большая государственная традиция» отсылает к традициям прежних периодов. При этом формально современные партийные лидеры не отказываются от китаизированного марксизма времен Мао Цзэдуна, хотя фактически относятся к традиции совершенно иначе. Таким образом, китайские власти следуют важной концепции «большой государственной традиции», выработанной в Китае: не отрицать прошлое, а обобщать его в единый комплекс, пусть даже и сущностно противоречивый.
Вместе с тем нетрудно заметить, что базовая роль современного китайского традиционализма – не возврат к прошлому, а поиск в прошлом аргументов для обоснования современных концепций (в том числе марксизма). Это позволяет усваивать новые стратегии управления через соответствие одной из важных черт китайской картины мира – глубокого этноцентризма, который конструирует в сознании современных китайцев образ уникального Китая, с древности знавшего то, что западной цивилизации пришлось «переоткрыть» гораздо позже [18]. Указанные новые стратегии формируются на основе реальной управленческой практики и представляют собой ответ на вызовы времени. Их эффективность и практикоориентированность обеспечивается присущей китайской культуре высокой степенью прагматизма. В. В. Хандархаева определяет его как «практичность, направленность на осуществление “полезных” задач в обществе» [19]. Именно прагматизм, по мнению А. И. Кобзева, с древности являет собой одну из основ китайского мировоззрения [11]. Можно предположить, что именно китайский прагматизм позволяет традиционализму и идеологии обретать реальные, применимые формы и адаптироваться в новых условиях.
Вопрос об эффективности китайского традиционализма в современных управленческих процессах и его возможностях занимает одно из ведущих мест в исследованиях китайского управления. Несмотря на ряд сугубо негативных и позитивных оценок, китайский традиционализм все чаще трактуют с уравновешивающей позиции – как регион-специфичную черту китайской культуры, вполне жизнеспособную в новых условиях глобального и модернизирующегося мира, с учетом некоторых неизбежных ограничений. Так, по мнению М. В. Букатой, «в современном китайском обществе имеет место диалектика отношений традиций (базирующихся на константных внутрикультурных ценностях), новаций (формирующихся на базе модернизации традиционных ценностей) и инноваций (базирующихся на использовании принципиально новых для данного культурного контекста ценностных идей)»[14]. Таким образом, «цельность культуры современного Китая обеспечивается диалектическим взаимодействием фундамента прошлых традиций и постоянного поиска оптимальных инновационных решений в результате приспособления к меняющимся условиям глобализирующегося социума и природной жизни»[15]. По мнению А. И. Кобзева, указывающего на соединение марксизма с традиционной культурой Китая [11], Китай при этом является носителем адаптированной к нынешним глобальным ценностям собственной философии, объединяющей древнюю и традиционалистски рафинированную культуру.
Можно констатировать, что традиционализм китайцев в настоящее время остается значимым фактором системы управления. Анализ исследований состояния традиционных ценностей в современном Китае позволяет предположить, что они обладают следующими регион-специфичными свойствами:
1) адаптивность (традиция подстраивается под трансформацию в связи с процессами глобализации, урбанизации, модернизации, вестернизации, отбирая устойчивые концепции и адаптируя их под требования времени);
2) вариативность (при необходимости в разных сферах общественной жизни могут применяться противоречащие друг другу традиционные концепции, это обеспечивается синкретизмом китайских традиционных доктрин);
3) интерпретативность (традиция нередко может применяться как значимый аргумент в отстаивании позиции самоценности китайской культуры и китайских форм управления, в этом случае традиционные концепции и тексты проявляют свойство приложимости к любым феноменам социальной жизни);
4) образная конструируемость (диверсификация ценностей в современном мире не всегда позволяет определить, какие именно ценности действительно имеют важное значение для современного собирательного китайца, а какие конструируются в его сознании, в том числе как часть сложного образа воображаемого «традиционного Китая» или «традиционного Востока»; подобные процессы «изобретения» Азии свойственны не только процессам восприятия китайцев другими этносами, но и процессам формирования автоэтностереотипов).
Другими словами, современный традиционализм в рамках «большой государственной традиции» превратился из устойчивых форм культуры в инструмент гармонизации устойчивого и адаптивного в управлении, снижая ригидность первого и нестабильность второго.
Сочетание «большой» и «малой» традиции в управлении. Как подчеркивает М. В. Букатая, традиционализм в китайском управлении – это не только следование набору устойчивых и социально воспроизводимых ценностей, но и устойчивое воспроизведение духовной культуры[16].
«Малая традиция», т. е. культивирование ценностей в относительно закрытых сообществах (селах, пригородах, некоторых городских сообществах и т. п.), сохраняет свою значимость для современного общества потому, что «системы культуры по определению, в отличие от технических, экономических систем, обладают большей инерционностью». Кроме того, для китайцев культура/традиции выступают «приоритетной зоной притяжения для социальных систем» (в отличие от западной цивилизации, для которой такой зоной являются рациональность/техницизм) [13].
Ответ на вопрос, как между собой взаимодействуют два типа традиционализма в управлении, можно дать по результатам проводимых в Китае социологических и социально-антропологических исследований, основанных на данных полевых исследований (опросов, наблюдений, глубинных интервью, кейс-стади). Эти результаты позволяют осмыслить два указанных типа традиции: 1) как «малая традиция» проявляется в региональном (сельском / пригородном / горном) управлении (т. е. в неурбанизированных или низкоурбанизированных системах, где и культивируется «малая традиция»)[17]; 2) как современная «большая государственная традиция» адаптирует управленческие концепции древности[18]. Эти же результаты позволяют выявить тенденции взаимодействия «малой» и «большой традиции» в современном континентальном Китае.
Так, при изучении моделей управления сельскими общинами в районах проживания национальных меньшинств[19] выявляется, что партийно-государственные органы напрямую руководят трансформацией местных традиций управления: это отвечает современным задачам повышения уровня жизни на селе[20]. В качестве «малой традиции» управления Ван Лися выделяет «управление на основе ритуала», т. е. преобладание личных отношений над правовыми. «Большая государственная традиция» при этом продвигается на трех уровнях: физическом, техническом и нравственном. В первом случае речь идет о конкретном присутствии КПК и государственных органов на периферийных территориях: там должны быть наглядные пропагандистские материалы и проводиться соответствующие мероприятия. Во втором случае, когда Ван Лися говорит о техническом управлении, он указывает на необходимость применения современных информационных технологий в продвижении идей и достижений «большой государственной традиции». Третий аспект – нравственный – связан с важностью отбора на административные должности чиновников, готовых нести в массы сформированный китайской традицией образ высоконравственного руководителя[21].
Что касается адаптации управленческих концепций древности, то содержание таких концепций в большей степени оказывается аргументом для обоснования правильности современного курса управления через его соответствие древним, устойчивым, проверенным образцам. Вместе с тем качественный анализ древних текстов и сравнительный анализ их с современными концепциями управления не позволяют говорить о реальном заимствовании традиций управления во всех случаях, когда это декларируется. Таким образом, здесь мы наблюдаем отрицательные черты китайского традиционализма: использование манипуляций общественным сознанием с целью обеспечения дополнительной значимости современных методов управления через искусственное приписывание им сходств с традиционными образцами. Такой подход несет определенные риски в связи с подменой анализа реальной практики полумифическими и исторически не обоснованными примерами. При этом таким «образцом» управления могут называться любые традиционные доктрины, вне зависимости от их реального содержания, однако задачей такого рода стратегии во многих случаях лежит не настоящее заимствование, а создание «мнимого» пространства [20], которое, при необходимости, может быть наполнено любым содержанием. Так, например, утверждается, что в основе продвигаемых в современном Китае принципов рыночной экономики, развития правового сознания, духовной цивилизации, национального единства и межэтнической солидарности лежат идеи легиста Гуань Чжуна (VII в. до н. э.): «управление страной на основе закона», «благоденствие народа и процветание страны», «уважение ритуала и почитание воспитания», «человек в основе всего» и т. д.[22] Подобным образом под современность интерпретируются идеи танского философа Лю Цзунъюаня[23] или идея «Великого единения», на основе которой обосновывается современная концепция «совещательного управления»[24].
Диффузия традиционализма в концепцию государственного управления, в том числе и использование традиционализма как обоснования современных управленческих концепций, подтверждается и числовыми социологическими данными. Так, проведенный нами анализ китайских социологических работ, направленных на изучение государственных и партийных документов с 2000 по 2023 г., показывает, что с момента обращения лидеров партии и государства в 2013 г. к концепции управления «чжили» (治理, governance), которая интерпретируется как «китаизированная» и «традиционная», обращения к прежней «вестернизированной» концепции менеджмента «гуаньли» (管理, management) практически полностью сошли на нет в течение 1‒2 лет. В процентном соотношении упоминания прежней концепции до и после 2013 г. представляют соотношение 71 % и 29 %, при этом второй показатель является инерционным, поскольку отражает данные 2014‒2015 гг., после чего обращения к этой концепции почти полностью исчезают. «Китаизированное» и «традиционное» управление «чжили», напротив, до и после 2013 г. используется в соотношении 6 % и 94 %. Подтверждается диффузия традиционализма в концепции современного государственного управления и данными, полученными китайскими исследователями: в частности, Лай Линчжи, проанализировавший более 300 текстов выступлений Си Цзиньпина и их описаний в китайских и зарубежных СМИ с 2012 по 2017 г., пришел к выводу, что обращение к традиционным ценностям конфуцианства содержится в подавляющем большинстве из них, в отличие от речей предыдущих лидеров, в которых такие упоминания встречались нерегулярно [21].
Приведенные результаты социологических и социально-антропологических исследований отражают крепнущую связь традиции (в ее адаптивном и конструируемом виде) и идеологии, т. е. наследование «большой государственной традиции» Древнего Китая. Этот процесс призван укрепить роль государства в социальных процессах. И если в современных западных обществах все чаще ставится вопрос об уменьшении роли государства на фоне возрастания значимости социального самоуправления [9], то в Китае государство демонстрирует иной вектор: несмотря на растущую роль социума в управлении, ведущая позиция сохраняется за партийно-государственными структурами.
Обсуждение и заключение
Китайский традиционализм как одна из основ управления сформировался довольно давно, еще в эпоху Чжоу (XI в. – 221 г. до н. э.), а закрепился уже в Ханьский период (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Вместе с тем современный традиционализм является довольно подвижной концепцией, среди его регион-специфичных атрибутивных свойств можно назвать адаптивность, вариативность, итерпретативность и конструированность. «Большая государственная традиция» и «малая традиция» в современном управлении интегрируются в рамках четырех типов факторов, определяющих систему управления (по Е. И. Русяевой). Как системообразующие факторы и «большая», и «малая традиция» проявляются в иерархизме (централизации) и китаецентризме (вере в свое культурное превосходство); как целефункциональные – в особой роли образования и воспитания и применении манипулятивных технологий; как функционально-структурные – в иерархии структуры (традиционно управленцы рассматривают подчиненных в организации как членов семьи, ожидая от них безусловное доверие и полную отдачу); как поведенческие – в коллективизме (с одной стороны, для китайцев значимы коллективные усилия, прилагаемые к делу для достижения общих интересов на основе групповых ценностей, с другой – сама концепция перекликается с базовой идеологемой коммунистической идеологии, которая на современном уровне использует традиционные доктрины для усиления легитимности своих методов управления), патернализме, примате традиционных форм поведения над рациональными, послушании, уважении к старшим, чинопочитании, ритуальности социальных практик. Эти факторы порождают особый китайский тип государственного управления, которое позволяет, с одной стороны, использовать устойчивые, проверенные формы воздействия на социум, с другой – привлекать традицию в качестве весомого аргумента для отстаивания тех или иных новых методов управления через их сопоставление с известными древними образцами.
Таким образом, современный китайский традиционализм продолжает культивироваться как в «малой», так и в «большой традиции». При этом наблюдаемое наступление «большой традиции» на «малую», т. е. приоритета центра над периферией, города над селом, государственных традиций над социальными, с одной стороны, соответствует сложившемуся для Китая вектору развития традиции «сверху вниз», с другой – проходит гибко и адаптивно. При этом китайский традиционализм в целом обладает значительным потенциалом для дальнейшей адаптации и проявляет выраженный регион-специфичный китаизированный характер. Исследование может быть продолжено в направлении изучения указанной динамики, а результаты настоящей работы могут быть полезны для формирования стратегий взаимодействия с китайскими государственными органами всех ступеней.
Дополнительная информация
- Финансирование. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-28-01448.
- Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
- Заявленный вклад авторов: Е. В. Кремнев – основная идея исследования; сбор и обработка данных; критический анализ; подготовка текста статьи; формулирование выводов. П. П. Дерюгин – развитие методологии; анализ материала; подготовка текста статьи; курирование данных; формулирование выводов. Л. А. Лебединцева – критический анализ текста; сбор и обработка данных; изучение концепции; доработка текста статьи. О. В. Кузнецова – анализ материала; формализованный и критический анализ данных; представление данных в тексте.
- Доступность данных и материалов. Наборы данных, использованные и/или проанализированные в ходе текущего исследования, можно получить у авторов по обоснованному запросу.
[1] Шацкий Е. Утопия и традиция / пер. с польск. ; общ. ред. и послесл. В. А. Чаликовой. М. : Прогресс, 1990. 454 с.
[2] Бабосов Е. М. Социология : энциклопед. словарь / предисл. Г. В. Осипова. М. : Либроком, 2008. 473 с.
[3] Stiftel B., Watson V., Acselrad H. Global Commonality and Regional Specificity // Dialogues in Urban and Regional Planning. London : Routledge, 2006. 384 p. https://doi.org/10.4324/9780203967508
[4] Букатая М. В. Аксиологические основания взаимодействия традиций и новаций в культуре Китая : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01. Барнаул : Кемер. гос. ун-т культуры и искусств, 2010. 184 с.
[5] Ян Дунмэй. Сянцунь шэхуэй чжили дэ сяо чуаньтун яньцзю – цзи юй юаньнань Сяоляньшань дицюй и гэ и цзу сяо цуньло дэ фэньси [Исследование малых традиций в сельском социальном управлении: анализ на примере села национальности и в районе Сяоляншань провинции Юньнань] : дис. ... маг. социологии. Куньминь : Юньнаньский ун-т, 2015. 43 с. (на кит. яз.)
[6] Морозова В. С., Колпакова Т. В. Культурное измерение китайской концепции «Сообщество единой судьбы» в проекциях глобального управления // Китай в год проведения XX съезда КПК : сб. ст. на основе докладов Ежегод. всерос. науч. конф. «Современное китайское государство» (г. Москва, 16–18 марта 2022 г.). М. : ИКСА РАН, 2022. С. 197‒206. https://doi.org/10.48647/ICCA.2022.41.21.037
[7] Chu Yun-han, Chang Yu-tzung, Huang Ming-hua. Modernization, Institutionalism, Traditionalism, and the Development of Democratic Orientation in Rural China / Asian Barometer. A Comparative Survey of Democracy, Governance and Development. Working Paper Series. No. 22. Taipei : Asian Barometer Project Office, National Taiwan University and Academia Sinica, 2004. 46 p. URL: https://asianbarometer.org/book?page=b10&paging=6 (дата обращения: 12.10.2024).
[8] Букатая М. В. Аксиологические основания взаимодействия традиций и новаций в культуре Китая…
[9] Морозова В. С., Колпакова Т. В. Культурное измерение китайской концепции «Сообщество единой судьбы» в проекциях глобального управления.
[10] Сунь Говэнь. Цун шэхуэй гуаньли дао шэхуэй чжили дэ шаньбянь [Переход от социального менеджмента к социальному управлению] : дис. ... маг. социологии. Нанкин : Нанкинский педагогический университет, 2016. 51 с. (на кит. яз.)
[11] Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 24. М. : Политиздат, 1969. С. 113‒150.
[12] Си Цзиньпин. Чжунхуа юсю чуаньтун вэньхуа ши чжунхуа миньцзу дэ гэн хэ хун [Выдающаяся китайская традиционная культура – это основа китайской нации и ее душа] [Электронный ресурс] // Дан цзянь ван [Портал партийного строительства]. 2022. 22 сент. URL: http://www.dangjian.cn/shouye/dangjianyaowen/202209/t20220928_6483686.shtml (дата обращения: 09.07.2024).
[13] Чжан Цзюнь. Шань юй цун чжунхуа юсю чуаньтун вэньхуа чжун цзицюй чжи го ли чжэн дэ линянь хэ сывэй [Искусство черпать идеи и концепции управления страной из выдающейся китайской традиционной культуры] [Электронный ресурс] // Жэньминь ван. Чжунго гунчандан синьвэнь ван. Лилунь [Портал «Жэньминь жибао». Новости Коммунистической партии Китая. Теория]. 2022. 16 сент. URL: http://theory.people.com.cn/n1/2022/0916/c40531-32527354.html (дата обращения: 09.07.2024).
[14] Букатая М. В. Аксиологические основания взаимодействия традиций и новаций в культуре Китая…
[16] Букатая М. В. Аксиологические основания взаимодействия традиций и новаций в культуре Китая…
[17] Ян Дунмэй. Сянцунь шэхуэй чжили дэ сяо чуаньтун яньцзю – цзи юй юаньнань Сяоляньшань дицюй и гэ и цзу сяо цуньло дэ фэньси [Исследование малых традиций в сельском социальном управлении: анализ на примере села национальности и в районе Сяоляншань провинции Юньнань]… ; У Фанфан. Цзицэн шэхуэй гуаньли: цунь чжужэнь дэ лоцзи [Социальное управление на низовом уровне: логика деревенского старосты] : дис. ... маг. социологии. Чанша : Южно-Китайский ун-т, 2012. 44 с. (на кит. яз.); Ли Яомэй. Фэньцзюй шицзяо ся нунминь дэ шэхуэй чжили цаньюй синвэй яньцзю – цзи юй Шаньдун, Хубэй лянь шэн дэ шуцзюй дяоча [Исследование участия сельских жителей в социальном управлении с точки зрения концепции раздельного проживания на основе статистических данных провинций Шаньдун и Хубэй] : дис. ... маг. социологии. Ухань : Сельскохозяйственный университет центрального Китая, 2016. 76 с. (на кит. яз.)
[18] Чжан Сиюнь. Гуань Чжун шэхуэй чжили сысян яньцзю [Исследование идей Гуань Чжуна о социальном управлении] : дис. ... маг. социологии. Анхой : Анхойский университет, 2017. 41 с. (на кит. яз.); Лу Сяо. Лю Цзунъюань шэхуэй чжили сысян чутань [Пилотное исследование идей Лю Цзунъюаня о социальном управлении] : дис. ... маг. социологии. Цзинань : Шаньдунский университет, 2021. 37 с. (на кит. яз.)
[19] Ван Лися. Баоань цзу сянцунь шэцюй чжили моши яньцзю [Исследование моделей управления сельскими сообществами народности баоань] : дис. ... д-ра социологии. Ланьчжоу : Ланьчжоуский университет, 2014. 173 с. (на кит. яз.)
[20] Deriugin P., Lebedintseva L., Veselova L. Social Transformations of Chinese Society in the Focus of Modern Sociological Science // The Routledge Handbook of Chinese Studies. London : Routledge, 2021. Pp. 389–401. https://doi.org/10.4324/9780429059704
[21] Ван Лися. Баоань цзу сянцунь шэцюй чжили моши яньцзю [Исследование моделей управления сельскими сообществами народности баоань]…
[22] Чжан Сиюнь. Гуань Чжун шэхуэй чжили сысян яньцзю [Исследование идей Гуань Чжуна о социальном управлении]…
[23] Лу Сяо. Лю Цзунъюань шэхуэй чжили сысян чутань [Пилотное исследование идей Лю Цзунъюаня о социальном управлении]…
[24] Хэ Вэй. Чжили гунтунти цзяньгоу: чэнши шэцюй сешан чжили яньцзю – и Шаньхай Путоцюй вэй ле [Построение общности управления: исследование консультативного управления в городских сообществах на примере района Путо города Шанхай] : дис. ... д-ра социологии. Шанхай : Восточно-Китайский педагогический университет, 2018. 208 с. (на кит. яз.); Цзя Юйцзяо. Лии сетяо юй юсюй шэхуэй – шэхуэй чжили шицзяо ся чжуаньсин ци Чжунго шэхуэй лии сетяо лилунь цзяньгоу [Координация интересов и упорядоченное общество: построение теории координации интересов в китайском обществе переходного периода с точки зрения социального управления] : дис. ... д-ра социологии. Чанчунь : Цзилиньский университет, 2010. 229 с. (на кит. яз.)
Об авторах
Евгений Владимирович Кремнёв
Иркутский государственный университет; Социологический институт РАН Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: kremnyov2005@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5255-3772
SPIN-код: 9597-5548
Scopus Author ID: 57211607591
ResearcherId: Q-4396-2018
кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой китаеведения, руководитель Научно-исследовательского центра трансдисциплинарной регионологии Азиатско-Тихоокеанского региона; ассоциированный научный сотрудник Российско-китайского центра междисциплинарных исследований
Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1; 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14Павел Петрович Дерюгин
Санкт-Петербургский государственный университет; Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина); Социологический институт РАН Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
Email: deriuginpav@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-5380-8498
SPIN-код: 7816-6709
Scopus Author ID: 57205375761
ResearcherId: AFJ-7283-2022
доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической социологии; профессор кафедры социологии и политологии; руководитель Российско-китайского центра междисциплинарных исследований
Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9; 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5; 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14Любовь Александровна Лебединцева
Санкт-Петербургский государственный университет; Социологический институт РАН Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
Email: llebedintseva879@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-9458-4689
SPIN-код: 1996-9779
Scopus Author ID: 56820216100
ResearcherId: I-7256-2013
доктор социологических наук, профессор факультета социологии; ассоциированный научный сотрудник Российско-китайского центра междисциплинарных исследований
Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9; 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14Ольга Владимировна Кузнецова
Иркутский государственный университет; Социологический институт РАН Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
Email: kuznetsova1@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9895-0471
SPIN-код: 9800-9784
кандидат филологических наук, доцент, декан факультета иностранных языков, заведующий кафедрой регионоведения АТР, руководитель сектора трансрегионализации Научно-исследовательского центра трансдисциплинарной регионологии Азиатско-Тихоокеанского региона; ассоциированный научный сотрудник Российско-китайского центра междисциплинарных исследований
Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1; 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14Список литературы
- Ламажаа Ч. К. Архаизация, традиционализм и неотрадиционализм // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 2. С. 88–93. URL: http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/2010/2/Lamazhaa_Archaization-Traditionalism-Neotraditionalism/ (дата обращения: 12.10.2024).
- Бочаров В. В. Традиционализм в востоковедческом измерении // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2023. Т. 15, № 1. С. 4–21. https://doi.org/10.21638/spbu13.2023.101
- Савченко И. А., Кремнев Е. В. Дискурсивная трихотомия в урбанистике: модели социального управления в Китае // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 74. С. 113‒125. URL: https://gotlib.ru/2024/01/23/discursive-trichotomy/ (дата обращения: 12.10.2024).
- Самсин А. И., Пономарев М. А., Сергеев П. А. Китай: реформы и управление // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2019. № 5 (79). C. 18‒23. EDN: ZFNKTF
- Костюченко Н. И. Феномен «социальное управление» как научная проблема // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (75). С. 143‒149. URL: https://mvd.ru/upload/site126/document_text/003/590/381/Vestnik_175_2024.pdf (дата обращения: 12.10.2024).
- Терещенко Т. А., Балашова И. В. Основные элементы системы государственного управления // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Экономика. 2022. Вып. 4 (310). С. 129‒134. https://doi.org/10.53598/2410-3683-2022-4-310-129-134
- Exploring Social Management: An International Bibliometric Review of Varied Perspectives / L. F. Felizardo [et al.] // International Journal of Scientific Management and Tourism. 2023. Vol. 9, issue 3. Pp. 1670–1701. https://doi.org/10.55905/ijsmtv9n3-021
- Social Management beyond Procrustes’ Bed: Ontological, Epistemological and Methodological Considerations / A. C. Cançado [et al.] // Business and Management Review. 2015. Vol. 4, no. 5. Pp. 208‒222. URL: https://researchgate.net/publication/353665213_Business_and_Management_Review_SOCIAL_MANAGEMENT_BEYOND_PROCRUSTES’_BED_i_Ontological_Epistemological_and_Methodological_Considerations (дата обращения: 12.10.2024).
- Reddel T. Third Way Social Governance: Where is the State // Australian Journal of Social Issues. 2004. Vol. 39, issue 2. Pp. 129‒142. https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2004.tb01167.x
- Fleetwood S. Ontology in Organization and Management Studies: A Critical Realist Perspective // Organization. 2005. Vol. 12, issue 2. Pp. 197‒222. https://doi.org/10.1177/1350508405051188
- Кобзев А. И. Исконные смыслы новой терминологии КПК // Проблемы Дальнего Востока. 2023. № 6. С. 111‒126. https://doi.org/10.31857/S013128120029383-2
- Малявин В. В. О китайской цивилизации // Российское китаеведение. 2022. № 1. С. 95‒111. https://doi.org/10.48647/ICCA.2022.49.25.006
- Русяева Е. Ю. Компаративный анализ управления социальными и организационными системами Китая, Запада и России // Вопросы культурологии. 2009. № 2. С. 53‒57. EDN: KVLUTX
- Редфилд Р. Искусство социальной науки / пер. с англ. В. Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. 2023. № 4. С. 156‒174. URL: https://www.neosoclit.ru/files/2023_Sociology_4_156-174.pdf (дата обращения: 12.10.2024).
- Oliveira D. J. S. Social Management: Epistemology Beyond Paradigms // Organizações & Sociedade. 2021. Vol. 28, no. 98. Pp. 582‒606. https://doi.org/10.1590/1984-92302021v28n9805EN
- Li Chengwei. Innovation of Social Management System: Interpretation from the Perspective of Public Management // Chinese Administrative Management. 2005. Vol. 5. Pp. 39‒41.
- Ding Yuanzhu. Building the Theory of Social Management in China // Monthly Research Journal. 2008. Vol. 2. Pp. 26‒36.
- Кремнев Е. В. Идеологически-ориентированные модели изучения социального управления в Китайской Народной Республике // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2024. № 1. С. 85–100. https://doi.org/10.31660/1993-1824-2024-1-85-100
- Хандархаева В. В. Расчетливость, прагматичность в древних религиозных верованиях китайцев // Вестник Бурятского государственного университета. 2022. № 2. С. 44‒50. https://doi.org/10.18101/1994-0866-2022-2-44-50
- Малявин В. В., Казанцев А. Е. Верховенство мнимости: китайское мировоззрение как ресурс нового мирового порядка // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21, № 2 (120). С. 120‒138. https://doi.org/10.31278/1810-6439-2023-21-2-120-138
- Лай Линчжи. Концепт «конфуцианство» в политических коммуникациях и СМИ // Медиа-альманах. 2017. № 4. С. 16‒25. URL: https://pureportal.spbu.ru/files/86587591/_.pdf (дата обращения: 16.10.2024).
Дополнительные файлы