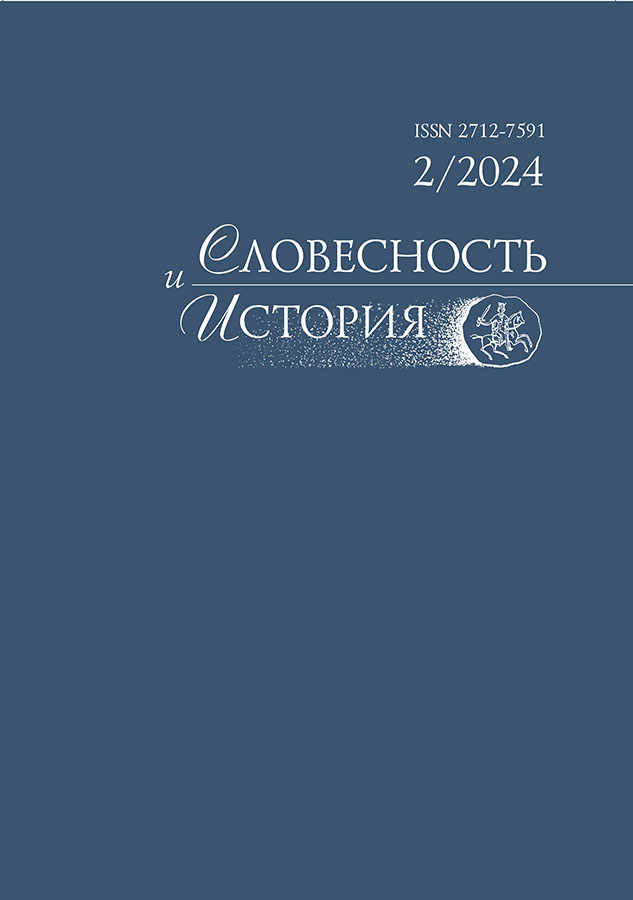The influence of medieval Russian literature on the epics of Eastern Siberia
- Authors: Ivanova T.G.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskii Dom) of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 33-47
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2712-7591/article/view/276288
- DOI: https://doi.org/10.31860/2712-7591-2024-2-33-47
- ID: 276288
Cite item
Full Text
Abstract
This article briefly highlights the history of the settlement of the two northeastern regions of Siberia — the areas of the Indigirka River (Russkoe Ust’e) and the Kolyma River — and discusses the history of the process of the recording of the local epics. The study pays particular attention to the influence of the medieval Russian version of Flavius Josephus’s History of the Jewish War on the local epics. The article analyzes variants of the epic “Mikhail Danilovich the Underage Hero,” which makes use of the name of Titus, the destroyer of the Jewish temple in Jerusalem. The author proposes the hypothesis that the name Elizar, which is found in the episode of “The Raid of the Lithuanians,” was also borrowed from the History of the Jewish War. For the Russian people of the Indigirka and Kolyma regions, this connection of the oral song and epic tradition with handwritten texts became one of many ways to establish their national identity in the 17th and 18th centuries.
Full Text
Былинная традиция Восточной Сибири (Индигирка, Колыма, Анадырь) неоднократно рассматривалась в различных исследованиях, в том числе и в небольшой монографии Л. Н. Скрыбыкиной «Былины русского населения северо-востока Сибири» [Скрыбыкина]. Однако один из аспектов былин этого края остается до нашего времени неосвещенным — это прямое влияние древнерусской книжности на местные былины.
Кратко охарактеризуем историю заселения и историю записи былин на Индигирке (Русское Устье) и Колыме. На Индигирке — крупной реке (1726 км), текущей на востоке от Лены и впадающей в Восточно-Сибирское море, — расположено селение Русское Устье. Устье реки, начиная со 130 км от моря, образует протоки (рукава): Русско-Устьинская (Русская), Средняя, Колымская (с запада на восток). В настоящее время эта территория входит в Аллаиховский улус (район) Республики Саха (Якутия).
Открытие Индигирки (1638 г.) принадлежит казачьему пятидесятнику Ивану Ивановичу Реброву (Роброву) (?–1666). Зимовье, основанное Иваном Ребровым в среднем течении Индигирки, на землях юкагиров, другим первопроходцем — енисейским казаком Посником Ивановым — в 1640 г. было превращено в острог, позднее известный как город Зашиверск. Дельта Индигирки (т. е. Русское Устье), подчеркнем, заселялась и из Зашиверска (через Зашиверск), и морским путем. Известно, что в 1650 г. в устье Индигирки 142 человека (промышленника) были обложены податью. Тогда они были причислены к зашиверским мещанам. По документам, жители Русского Устья прибыли из Великого Устюга, Вятки, Соли Вычегодской, с Мезени, Пинеги, из Холмогор, Чердыни и даже Новгорода. Словом, Русский Север как материнская метрополия прочитывается явственно [Гурвич, с. 55].
В XIX — начале XX в. в Русском Устье (регионе) стояло около 30 русских селений — от двух до семи дымов (дворов). В. М. Зензинов, политический ссыльный, оставил список населенных мест по Индигирке на 1912 г. [Зензинов 2001, с. 151–154]. Самое большое поселение в устье Индигирки — Русское Устье (Русское Жило), расположенное на Русской протоке. Во времена В. М. Зензинова в селении Русское Устье было шесть дымов (т. е. изб), здесь располагалась управа края, проживали староста и писарь, стояла церковь (без священника). Русское Устье, по свидетельству В. М. Зензинова, сохранило дух XVII в. Оказавшись в ссылке в здешнем крае, в своем дневнике он следующим образом описывал первые впечатления: «21 января 1912 года. Первый день в Русском Устье. Не знаю, не понимаю, куда я приехал. После полуторамесячного странствия по якутам, с их непонятной речью и чуждой для меня жизнью, я вдруг снова оказался в России. Светлые рубленые избы, вымытый деревянный пол, выскобленные стены и чистая русская речь». И далее В. М. Зензинов продолжает: «Это, конечно, Россия, но Россия XVII, может быть, XVI века. Странные древние обороты речи и слова, совершенно патриархальные, почти идиллические отношения <…> В селении стоит наивная часовенка со старинной тяжелой иконой Божьей Матери. „Только она нас и хранит“, — убежденно сказал мне русскоустинец. Вероятно, так же верили наши предки» [Зензинов 2001, с. 278–279]. В 1942 г. селение Русское Устье было перенесено со своего первоначального места на другое — на 20 км ниже по течению реки. Сюда же переселили большинство жителей других селений устья Индигирки с Русской и Средней проток. Новый поселок был назван Полярным; в 1988 г. селению вернули историческое имя Русское Устье. Современные этнографы квалифицируют русскоустьинцев как субэтнос [Бузин, Егоров, с. 328–329], образовавшийся в результате контактов русских с аборигенным населением.
Важным компонентом русского самосознания на Индигирке были былины, которые, как известно, берут на себя функцию исторической памяти народа. В 1860-е гг. Иван Александрович Худяков (1842–1876), политический ссыльный, в Верхоянске записал от выходца из Русского Устья две былины [Верхоянский сборник, с. 303–310]. Вторым собирателем русскоустьинских былин стал еще один политический ссыльный — уже названный Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953) [Зензинов 1913, c. 221–224]. Третий собиратель — Дмитрий Дмитриевич Травин (1889–1942), выпускник этнографического отделения географического факультета Петроградского (Ленинградского) университета, руководитель этнографического отряда большой экспедиции АН СССР в Якутию в 1927–1929 гг. Записи Д. Д. Травина до 1986 г. хранились неопубликованными в Архиве Академии наук; впервые изданы в сборнике «Фольклор Русского Устья» [ФРУ, № 94, 104, 108]. Следующим собирателем былин на Индигирке стал якутский краевед Модест Алексеевич Кротов (1899–1966), который в августе 1931 г. в местечке Харгытыр (расположено на Индигирке) записал одну былину от сказителя, который родом был с Русского Устья. Текст впервые опубликован в сборнике «Фольклор Русского Устья» [ФРУ, № 111]. Самое большое количество былин в Русском Устье было записано в 1946 г., когда на Индигирку была организована этнографо-лингвистическая экспедиция Института языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР. Одним из ее участников стал Николай Алексеевич Габышев (1922–1991) — якутский прозаик, драматург и переводчик. Его записи былин также впервые опубликованы в сборнике «Фольклор Русского Устья» [ФРУ, № 95–97, 100–102, 105–107, 110, 112, 113], равно как и записи другого участника экспедиции — Н. М. Алексеева [ФРУ, № 98, 114]. В 1982 г. в Русском Устье побывал известный московский фольклорист Юрий Иванович Смирнов (1935–2015), которому удалось зафиксировать несколько полуразрушенных былин [РЭПС, № 18, 51, 55]. Через три года, в 1985 г., в Русском Устье работала этномузыковед Татьяна Сергеевна Шенталинская, которая в Полярном записала припоминание одного из былинных сюжетов [РЭПС, № 62а].
Восточнее Индигирки находится еще одна большая сибирская река — Колыма (2129 км), впадающая в Колымский залив Восточно-Сибирского моря. Дельта реки, начинающаяся в 110 км от моря, образует рукава: Каменная Колыма, Походская и Чукочья (с запада на восток).
Открытие для русских людей Колымы связано с двумя именами — Дмитрия Зыряна и Михаила Стадухина. Дмитрий Зырян со своим отрядом в 1640–1641 гг. сухим путем на лошадях добрался из Якутска на Индигирку, а затем и в нижнее течение Колымы. В 1645 г. Дмитрий Зырян был начальником Нижнеколымского зимовья, где он и скончался в 1646 г. Одновременно с Дмитрием Зыряном, но морем, к Колыме подошел Михаил Стадухин (ум. 1666), который в 1644 г. в низовьях Колымы поставил зимовье [Алексеев; Визгалов; Строгова], позднее получившее статус города Нижнеколымска. Историческим поселением Колымы является Походск, стоящий на левом берегу Походской протоки, в 40 км от нынешнего пос. Черский. Поселение начиналось с одного из зимовий, возможно основанных Стадухиным, по-видимому, около 1647 г. [Вахтин, Головко, Швайтцер, с. 44–52, 91–97, 128–134, 233–238].
На Колыме имеются еще два поселения — Среднеколымск и Верхнеколымск. В XIX в. Среднеколымск стал местом ссылки. В 1893 г. по поручению якутского чиновника Д. И. Меликова ссыльный (политический?) С. Г. Власов здесь записал две былины [Чарина, № 8 и 12]. Именно сюда был определен народник В. Г. Богораз-Тан, записавший на Колыме в 1895–1896 гг. значительную часть местных былин [РЭПС, № 19, 25, 29, 32, 45, 49, 56, 65, 66, 85, 92, 149]. В 1940 г. здесь работал С. И. Боло, зафиксировавший один былинный сюжет [РЭПС, № 128]. В 1959 г. в Нижнеколымске С. А. Федосеева записала былину «Михаил Данилович — малолетний богатырь» [РЭПС, № 57], а в 1961 г. Т. А. Селюкова также зафиксировала два варианта былины «Михаила Даниловича — малолетнего богатыря» [РЭПС, № 58, 59]. Именно этот сюжет и является центральным для темы нашей статьи.
Представим сведения о записях былины «Михаил Данилович — малолетний богатырь» в таблице.
№ | Год записи | Место записи | Собиратель | Сказитель | Публикация |
Русское Устье | |||||
1 | 1912 | Осколково | В. М. Зензинов | Киприан Иванович Рожин | [ФРУ, № 103; РЭПС, № 50] |
2 | 1928 | Русское Устье | Д. Д. Травин | Н. Г. Чихачев | [ФРУ, № 104; РЭПС, № 52] |
3 | 1946 | Полярный (Русское Устье) | Н. А. Габышев | Иван Николаевич Чикачев (сын Н. Г. Чихачева) | [ФРУ, № 106; РЭПС, № 53] |
4 | 1946 | Косухино | Н. А. Габышев | С. П. Киселев | [ФРУ, № 105; РЭПС, № 54] |
5 | 1982 | Полярный (Русское Устье) | Ю. И. Смирнов | Николай Киприянович Рожин (сын К. И. Рожина) | [РЭПС, № 51] |
6 | 1982 | Полярный (Русское Устье) | Ю. И. Смирнов | Е. С. Киселев (сын С. П. Киселева) | [РЭПС, № 55] |
Колыма | |||||
1 | 1893 | На нижней Колыме | С. Г. Власова / Д. И. Меликов |
| [Чарина, № 8] |
2 | 1895 | На нижней Колыме | В. Г. Богораз-Тан | М. Соковиков | [РЭПС, № 56] |
3 | 1959 | Нижнеколымск | С. А. Федосеева | Михаил Гаврилович Решетников | [РЭПС, № 57] |
4 | 1961 | Нижнеколымск | Т. А. Селюкова | Михаил Гаврилович Решетников | [РЭПС, № 58] |
5 | 1961 | Походск | Т. А. Селюкова | Иннокентий Гаврилович Гуляев | [РЭПС, № 59] |
Содержание европейской классической версии сюжета «Михаил Данилович — малолетний богатырь» следующее: престарелый богатырь Данила Игнатьевич уходит в монастырь и оставляет для защиты Киева своего двенадцатилетнего сына Михаила Даниловича; к Киеву подходит Калин-царь; Михаил Данилович, несмотря на отговоры богатырей, указывающих на его малолетний возраст, выезжает навстречу врагу, вступает в битву; по некоторым вариантам, он попадает в подкоп, отказывается служить татарам, разрывает путы; конь приносит Даниле Игнатьевичу весть о случившемся; престарелый богатырь выезжает на поле боя и побивает врагов; в отдельных текстах во время боя Данила Игнатьевич принимает сына за татарина и вступает с ним в бой; князь Владимир на пиру награждает Михаила Даниловича.
М. Г. Халанский, опираясь на один из известных ему вариантов рассматриваемого сюжета, в котором главного героя зовут Иван Данилович, выдвигает гипотезу, согласно которой былина сложилась как отражение исторического события 1136 (1135) г. — битвы при реке Супое между войсками киевского князя Ярополка Владимировича (сына Владимира Мономаха) и Всеволода Ольговича, князя Черниговского, вступившего в союз с половцами. Войска Ярополка Владимировича потерпели поражение. Летопись сообщает, что среди погибших был некто Иван Данилович [Халанский, с. 43 и след.]. Эту точку зрения поддерживает В. Ф. Миллер [Миллер 1897, с. 345–361], развивающий также идею А. Н. Веселовского [Веселовский, с. 3–60] о схождении севернорусской былины о Михаиле Даниловиче и южнорусской (украинской) легенды о киевском богатыре Михайлике, которого требуют выдать татары, в результате чего Михайлик удаляется из Киева, захватив с собой Золотые ворота, и уезжает в Царьград. Глава исторической школы вслед за М. Г. Халанским считает, что в былинном образе Михаила Даниловича отразились также какие-то не дошедшие до нас сказания о князе Михалко Юрьевиче (1145/1153–1176), сыне Юрия Долгорукого, получившем от отца престол молодого на тот момент города Владимира и вынужденном покинуть его, так как суздальцы и ростовцы осадили город, требуя изгнать Михалка из города. Имена киевского Михайлика и владимирского князя Михалко Юрьевича и стали основанием для появления в былинах имени Михайло Данилович. В XX в. к гипотезе об историческом зерне былины (битва при Супое) присоединился В. И. Чичеров, сопоставивший к тому же рассматриваемый сюжет с былиной «Илья Муромец и Калин-царь» и пришедший к выводу, что первичной была былина о Михаиле Даниловиче, а вторичной — старина о Калине-царе [Чичеров, с. 33–35].
Мы оставляем в стороне вопрос о возможных исторических основах былины «Михаил Данилович — малолетний богатырь» и сосредоточимся на особой версии, бытующей на реках Индигирке и Колыме.
Сибирская северо-восточная региональная традиция предлагает очень устойчивую версию (в двух редакциях) сюжета «Михаил Данилович — малолетний богатырь», версию, подчеркнем, не зафиксированную в европейской России. Здесь наличествует именной ряд, неизвестный стáринам Русского Севера. Тит угрожает Киеву или Иерусалимскому царству; на пиру у князя Владимира (или царя Тимофея) все гости хоронятся друг за друга, только Данила Игнатьевич, заявив о своей старости, говорит, что если бы его сын Михайлушка был не двенадцати лет, а старше, он бы выступил против Тита и постоял бы за веру христианскую; тем не менее князь Владимир посылает за Михайлушкой; герой воспринимает поручение со слезами и упрекает отца в том, что тот похвастал им во хмелю (в классической версии Михайлушка сам вызывается сразиться с противником, хотя его и отговаривают, мотивируя это его молодостью); явившись к царю, Михайлушка выпивает чару в полтора ведра (проявление богатырства); Данила Игнатьевич, давая сыну коня и вострую саблю, наставляет его рубиться трое (шесть) суточек, а затем поворачивать назад; герой сражается более названного срока, оказывается раненым, приезжает к отцу; Данила Игнатьевич кладет Михайлушку под святые образа и зажигает свечу («Оживешь, мое дитятко, свеча горит — / Умрешь, мое дитятко, так свеча сгорит» — [ФРУ, № 104, ст. 80–81]) (в классической версии Данила Игнатьевич едет в чисто поле, на место сражения, и там находит своего сына); Данила Игнатьевич отправляется в чисто поле, пленяет самого Тита, привозит его к князю Владимиру (Тимофею); затем он приезжает домой и находит Михаила Даниловича умершим; Данила кидается на кирпичный мост (пол) и убивается до смерти (в классической версии этот мотив отсутствует). Таким образом, героями в этой версии являются и Михаил Данилович, и Данила Игнатьевич. Эта былина, укажем, оказалась среди былин-долгожителей северо-востока Сибири: последние разрушенные записи сделаны Ю. И. Смирновым в Русском Устье в 1982 г.
В. Ф. Миллеру данная версия была известна по варианту, записанному В. Г. Богоразом-Таном на нижней Колыме от сказителя М. Соковикова (Кулдаря) [Миллер 1896]1. Фольклорист, по-видимому, справедливо полагал, что она древнее той версии, которая бытовала на европейском Русском Севере: «…колымский вариант сохранил в наибольшей чистоте черты первоначальной редакции, в которой уходящий в монастырь отец объявлял своим заместителем сына только по достижении им известного возраста (курсив наш. — Т. И.)» [Миллер 1896, с. 83]. К этой точке зрения присоединяется и С. Н. Азбелев [Азбелев, с. 29].
Варианты Колымы и Русского Устья, как мы уже заявили, представляют одну версию сюжета «Михаил Данилович — малолетний богатырь», но делящуюся на две редакции. Можно отметить выразительные отличия в региональных традициях Колымы и Русского Устья. На Колыме Тит Фарафонтьевич (Хорохонтьевич) угрожает Киеву (традиционный для былин локус):
Стольной Киев я град без щита возьму,
Как девиц и вдовиц всех на блуд спущу,
Еще мелкую сошку всю повырублю,
Царя Тимофея во полон возьму,
Молоду его княгиню за себя возьму!
[РЭПС, № 56, ст. 12–16; см. также № 59, ст. 7–10].
В других колымских текстах называется Русь Святая. Князь Владимир обращается к престарелому богатырю Даниле Игнатьевичу: «Помогите нам, Данила Игнатьевич, за Русь Святую, / За Мать Пресвятую Богородицу!» [РЭПС, № 57, ст. 4–5; № 58, ст. 7–8]. В одном из колымских вариантов киевская составляющая явлена не топонимом, а лишь именем «князя солнышка Владимира» [Чарина, № 8].
В былинах Русского Устья враг угрожает не Киеву (Святой Руси), а Иерусалимскому царству:
Иерусалимского я царства выжгу, выпьяню,
Царя Тимофея в полон полоню,
Его Божьи церкви на дым пущу,
Его вдовьи монастыри, девьи монастыри на глубь спущу,
Царицу-княгиню за себя возьму!
[РЭПС, № 50, ст. 5–9; № 52, ст. 10–12; № 54, ст. 5–8].
Святая Русь и Киев в русскоустьинских былинах на сюжет «Михаил Данилович — малолетний богатырь» ни разу не встретились.
В колымской региональной традиции вместо князя Владимира единожды зарегистрирован царь Тимофей (см. выше цитату из текста РЭПС, № 56, ст. 15). Царь Тимофей — очевидное искажение былинного антропонимического ряда, однако определенным образом Тимофей соотносится с песенно-эпической традицией. Напомним, что в былинах Русского Севера популярно отчество Тимофеевич / Тимофеевна: отец Ильи Муромца — Иван Тимофеевич; мать Добрыни Никитича или Дюка Степановича — Омельфа Тимофеевна и т. д. Впрочем, укажем, что в следующих строках сказитель М. Соковиков исправно называет уже не царя Тимофея, а солнушко Владимира-князя [РЭПС, № 56, ст. 47, 58, 65, 114, 117]. В остальных колымских былинах твердо фиксируется князь Владимир / Владимир Красно Солнышко [РЭПС, № 57, ст. 31, 54; № 58, в прозаическом начале старины и других прозаических фрагментах, ст. 64; № 59, ст. 7, в прозаических фрагментах].
В Русском Устье, в отличие от Колымы, антропоним царь Тимофей оказывается весьма устойчивым [РЭПС, № 50], см. выше цитату; [РЭПС, № 52, ст. 1, 11, 97; № 54, ст. 7]. Князь Владимир, напротив, в этом регионе в нашем сюжете ни разу не встретился.
Определенные метаморфозы на северо-востоке Сибири происходят с образом Апраксеевны (Апраксевны), жены князя Владимира (царя Тимофея). Апраксеевна — предмет вожделения Тита, врага Киева (Иерусалимского царства) (см. колымский текст [РЭПС, № 56, ст.16; Чарина, № 8]). Однако на Колыме Апраксевна неожиданно может оказаться и союзницей (женой) Тита. На царство князя Владимира подымается
Сила страшная, татарская
И прокляцка, басурманская,
Тит Хорохонтьевич со своей свитою
И со своей Дусечкой Апраксеевной
[РЭПС, № 58, ст. 2–5, 17–18, 53–54].
Согласно варианту [РЭПС, № 58], Данила Игнатьевич Тита Хорохонтьевича «живьем поймал», «А его Дусечку Апраксевну / Коню за хвост привязал» (ст. 62–63). Антропонимическая форма Дусечка Апраксеевна, по-видимому, сложилась на основе лексемы «душечка». В варианте [РЭПС, № 57], записанном, как и текст [РЭПС, № 58], от М. Г. Решетникова, Данила Игнатьевич точно так же поступает с Апраксеевной.
В тексте [РЭПС, № 59] (пос. Походск, сказитель И. Г. Гуляев), с одной стороны, Дусечка Апраксевна является вроде бы одной из целей в угрозах Тита (ст. 10), но с другой — жена князя Владимира сама симпатизирует Титу. После победы Данилы Игнатьевича над Титом князь и княгиня с башни всматриваются в едущего богатыря: «Тозно на башне стоят смотрят, а Дусечка Апраксевна сказала: „Узнавай молодца по походочке, а сокола по полеточке. Это Тит Хорохонтьевич Данилы Игнатьевича голову везет“. Олеша Попович сказал: „Не Данилы Игнатьевича голову везут, а Тита Хорохонтьевича голову везут. Не была бы ты князина великая и нашего великого князя солнышка Владимира [женой], назвал бы тебя сучкой гончатой!“».
В былинах Русского Устья [ФРУ, № 103, 104, 105] княгиня остается только предметом угроз Тита.
Весьма любопытным является закрепление в былинной традиции Русского Устья и Колымы имени Тит. Можно с уверенностью утверждать, что это имя попало в былины из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия — памятника античной литературы (75–79 гг. н. э.), популярного на Руси в переводе XI — начала XII в. Впервые на связь былины с «Историей Иудейской войны» указал А. А. Бурикин в рецензии на «Фольклор Русского Устья»: «Особенно интересно то, что в четырех записях былины Данила Игнатовича и его сына имеется мотив литературного происхождения, который отсутствует во всех других вариантах этой былины, — упоминание о „Тите царе“ и его угрозе разорить „Ерусалимский город“, „Иерусалимское царство“, — связанный, вероятно, с довольно популярным литературным памятником — „Историей Иудейской войны“ Иосифа Флавия (переведенным в XII веке с греческого языка), которая оказала значительное влияние на развитие древнерусской воинской повести» [Бурикин, с. 88].
Позволим себе напомнить исторические обстоятельства, давшие основания «Истории Иудейской войны». Во время Иудейской войны (67–73 гг. н. э.), а вернее, восстания иудеев против владычества Рима, во главе римской армии стоял Веспасиан Флавий, избранный в 69 г. своими сторонниками (прежде всего — римскими воинами) императором. Веспасиан оставил своего сына Тита в Иудее; вскоре, в 70 г., тот и захватил Иерусалим и разрушил там главный храм. Иосиф, автор «Истории Иудейской войны», был иудейским военачальником, попал в плен; впоследствии он жил в Риме, взяв родовое имя своего победителя — Флавий. В своей книге он одинаково подробно описал действия иудеев и римлян2.
Весьма свободный перевод «Истории Иудейской войны» на древнерусский язык был выполнен в XI–XII вв. и имел широкое хождение на Руси в разных формах [Мещерский; Иосиф Флавий 2004; Творогов]. Один из списков, по-видимому, был принесен в Русское Устье и оказал влияние на устную былинную традицию, позаимствовавшую и имя Тит, и топоним «Иерусалимское царство».
Следует отметить, что былинное Иерусалимское царство воспринималось русскоустьинцами как христианское царство. Весьма примечательно, что Тит угрожает в Иерусалимском царстве в том числе и церквам и монастырям: «Его Божьи церкви на дым пущу, / Его вдовьи монастыри, девьи монастыри на глубь спущу» [ФРУ, № 103, ст.7–8]. Без сомнения, здесь свою роль сыграло и то, что Гроб Господень находится в Иерусалиме, и то, что в 1099 г., после Первого крестового похода, было образовано христианское Иерусалимское королевство (государство крестоносцев), просуществовавшее до 1291 г.
Надо полагать, что на северо-восток Сибири из европейской части России была занесена версия былины, обозначенная В. Ф. Миллером как древнейшая, — с Киевом и святой Русью и князем Владимиром. Эта версия закрепилась первоначально в Русском Устье, а затем была перенесена на Колыму. Далее в былине в Русском Устье произошли трансформации, вызванные влиянием «Истории Иудейской войны», — появилось имя Тита как врага русского народа. Это имя закрепилось и в Русском Устье, и на Колыме. Однако воздействие «Истории Иудейской войны» в Русском Устье оказалось более глубоким, чем на Колыме. Колыма сохранила исконные топонимы Киев и Святая Русь; Русское Устье позаимствовало из книжного источника «Иерусалимское царство», заменившее древнекиевскую топонимику. Очевидно, что рукописный список «Истории Иудейской войны» находился именно в Русском Устье (а не на Колыме).
На Колыме имя Тита Фарафонтьевича попадает еще в один богатырский сюжет — о Сухмане. В Среднеколымске В. Г. Богораз-Тан в 1895 г. записал начало названной былины [РЭПС, № 65], согласно которой Сухман, выехавший после пира у князя Владимира в чисто поле, встречает войско Тита.
Следы «Истории Иудейской войны» мы находим не только в сюжетах «Михайло Данилович — малолетний богатырь» и «Сухман», но и в сибирских северо-восточных вариантах «Наезда литовцев (братья Ливики)». Данный сюжет относится к поздним былинам; сложен, скорее всего, на исходе формирования былинного репертуара, в XIV в. Во многих вариантах местом действия оказывается Москва: братья Ливики угрожают Москве, а не традиционному Киеву; угроза же исходит не от татар (с востока), а от Литвы (с запада).
Русскоустьинские былины (три варианта; на Колыме данный сюжет не зарегистрирован) нам опять предлагают особую версию былины. С одной стороны, в местной традиции вроде бы сохраняется литовский след: в тексте [ФРУ, № 110] мы находим имя короля Ячмана Ячмановича (традиционно Этмануйло Этмануйлович / Етмануйло Етмануйлович в сборнике Кирши Данилова [Древние российские стихотворения, № 11, 15, 21] — от нарицательного существительного «гетман» [Новиков, с. 23]), племянники которого хотят идти походом на царя Елизара, играющего роль «своего» для былинного мира. Однако племянники потеряли все черты литовцев (имя «братья Ливики» в местной традиции отсутствует). Пространство в Русском Устье [РЭПС, № 36, 37] обозначено явно выдуманными топонимами Граждан-город или Беренц-город, который хотят захватить племянники короля. Ю. И. Смирнов трактует в комментариях Беренц как Брянск [РЭПС, с. 383]. Все узловые эпизоды в былинах сохраняются: Ячман Ячманович пытается отговорить племянников от военного похода, предупреждая их, что Елизар хитер-мудер; они все-таки отправляются в царство Елизара, берут его города, пленяют Марью Елизаровну с сыном Михайлушкой; Елизар оборачивается серым волком (жилы у вражеских коней подрезал) и белым горнаком (горностаем) (испортил кремни у ружей); одному королевскому племяннику ломает ноги, другому глаза «выкопал», сажает слепого на хромого и отправляет Ячману-королю.
Обращает на себя внимание имя «своего» героя — царя Елизара и его сестры Марьи Елизаровны. Имя Елизар (и отчество Елизаровна) в вышедших томах Свода русского фольклора (Печора, Мезень, Кулой, Пинега, Пудожье) не зафиксировано. Мы рискнем предположить, что на северо-востоке Сибири опять сказалось влияние «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, где встречается несколько персонажей по имени Эльазар (Эльазар → Елизар). Один из Эльазаров склонил иудеев не принимать в храме жертвоприношения в честь римского императора, что и послужило основанием Риму подавить неповиновение Иудеи. Другой Эльазар при осаде римлянами города Йодфата с городской стены сбросил огромный камень и отломил голову «барана» (римского тарана). Третий Эльазар из крепости Махор попал в руки римлян, которые истязали его на глазах у иудеев и хотели распять на кресте. Чтобы спасти Эльазара, жители сдали город. Никто из Эльазаров «Истории Иудейской войны» типологически не совпадает с былинным царем Елизаром. Однако имя Эльазар, по-видимому, понравилось русскоустьинцам, которые и ввели его в свои былины.
Таким образом, былинный материал Русского Устья и Колымы демонстрирует явственное влияние памятника книжности Древней Руси «История Иудейской войны» на устную песенно-эпическую традицию. По всей видимости, оторванность Русского Устья и Колымы (и Сибири в целом) от европейской России обостряла в русских людях, пришедших на просторы Сибири, чувства и национального, и христианского (православного) самосознания, что заставляло их по-особенному дорожить историко-культурными ценностями — былинами, сюжеты которых во множестве были занесены на северо-восток Сибири, и древнерусскими рукописями, которые, без сомнения, единично оказались в районе Индигирки и Колымы. Сопряжение устной песенно-эпической традиции и рукописных памятников стало в XVII–XVIII вв. одним из способов утверждения национального самосознания русских промышленников на Индигирке и Колыме.
1 Правда, укажем, что текст, опубликованный В. Ф. Миллером, в отдельных деталях существенно отличается от текста беловой рукописи В. Г. Богораза-Тана из Архива Академии наук, по которой публикуется былина в изд. [РЭПС, № 56]. Скорее всего, В. Г. Богораз-Тан неоднократно слышал былину Соковикова и позволял себе редактировать первоначально записанный текст, возможно вставляя в него фрагменты и из других сюжетов. Мы будем считать основным вариантом опубликованную запись из Архива АН [РЭПС, № 56].
2 В последние годы вышло в свет несколько изданий перевода «Иудейской войны» Иосифа Флавия с древнегреческого языка; см. например, издание 2006 г.: [Иосиф Флавий 2006].
About the authors
Tatyana G. Ivanova
Institute of Russian Literature (Pushkinskii Dom) of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: tgivanova@inbox.ru
д-р филол. наук, главный научный сотрудник
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Alekseev, A. N. (1996). Pervye russkie poseleniya na Severo-Vostoke Azii. Novosibirsk: Izdatel'stvo Instituta arkheologii i etnografii, 151 p.
- Azbelev, S. N. (1986). ‘Fol'klor Russkogo Ust'ya’, in: S. N. Azbelev, G. L. Venediktov, N. A. Gabyshev et al., eds., Fol'klor Russkogo Ust'ya. Leningrad: Nauka, 9–38.
- Azbelev, S. N., Venediktov, G. L., Gabyshev, N. A. et al., eds. (1986). Fol'klor Russkogo Ust'ya. Leningrad: Nauka, 383 p.
- Burikin, A. A. (1987). ‘Nove vidannya fol'kloru rosiis'kikh starozhiliv Sibiru. [Retsenziya na knigu: Fol'klor Russkogo Ust'ya]’, Narodna tvorchist' ta etnografiya, 5, 87–88.
- Buzin, V. S., Egorov, S. B. (2008). ‘Subetnosy russkikh: Problemy vydeleniya i klassifikatsii’, in: Malye etnicheskie i etnograficheskie gruppy: Sbornik statei, posvyashchennyi 80-letiyu so dnya rozhdeniya professora R. F. Itsa (Istoricheskaya etnografiya; Vol. 3). Saint Petersburg: Novaya al'ternativnaya poligrafiya, 2008, 308–346.
- Charina, O. I. (2013). ‘Zapisi fol'klora, proizvedennye D. I. Melikovym v Nizhnekolymskom krae v 1893 godu’, in: Iz istorii russkoi fol'kloristiki. Saint Petersburg: Nauka. Vol. 8, 419–437.
- Chicherov, V. I. (1947). ‘Ob etapakh razvitiya russkogo istoricheskogo eposa’, in: Istoriko-literaturnyi sbornik. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoi literatury, 33–35.
- Evgen'eva, A. P., Putilov, B. N., eds. (1977). Drevnie rossiiskie stikhotvoreniya, sobrannye Kirsheyu Danilovym. 2nd ed. Moscow: Nauka, 487 p.
- Gurvich, I. S. (1966). Etnicheskaya istoriya severo-vostoka Sibiri (Trudy Instituta etnografii imeni N. N. Miklukho-Maklaya. Novaya seriya; Vol. 89). Moscow: Nauka, 269 p.
- Iosif Flavii (2006). Iudeiskaya voina, M. Finkel'berg, A. A. Vdovichenko, transl., A. Kovel'man, ed. Moscow; Ierusalim: Mosty kul'tury, Gershalim, 523 p.
- Khalanskii, M. G. (1885). Velikorusskie byliny kievskogo tsikla. Varshava, 235 p.
- Khudyakov, I. A., ed. (1890). Verkhoyanskii sbornik. Yakutskie skazki, pesni, zagadki i poslovitsy, a takzhe russkie skazki i pesni, zapisannye v Verkhoyanskom okruge (Zapiski Vostochno-Sibirskogo otdeleniya Russkogo geograficheskogo obshchestva po etnografii; Vol. 1, 3). Irkutsk: Izdano na sredstva I. M. Sibiryakova, 314 p.
- Meshcherskii, N. A. (1958). Istoriya Iudeiskoi voiny Iosifa Flaviya v drevnerusskom perevode. Moscow; Leningrad: Izdatel'stvo akademii nauk SSSR, 577 p.
- Miller, V. F. (1896). ‘Novye zapisi bylin v Yakutskoi oblasti’, Etnograficheskoe obozrenie. Vol. 29/30, 2/3, 72–116.
- Miller, V. F. (1897). Ocherki russkoi narodnoi slovesnosti. Byliny. Moscow: Tipografiya I. D. Sytina. Vol. 1, 464 p.
- Novikov, Yu. A. (2000). Skazitel' i bylinnaya traditsiya. Saint Petersburg: Dmitrii Bulanin, 374 p.
- Pichkhadze, A. A. et al., eds. (2004). Iosif Flavii. Istoriya Iudeiskoi voiny. Drevnerusskii perevod. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul’tury. Vol. 1, 880 p.
- Skrybykina, L. N. (1995). Byliny russkogo naseleniya severo-vostoka Sibiri. Novosibirsk: Nauka, 103 p.
- Smirnov, Yu. I., Shentalinskaya, T. S., eds. (1991). Russkaya epicheskaya poeziya Sibiri i Dal'nego Vostoka. Novosibirsk: Nauka, 498 p.
- Strogova, E. A. (2014). ‘Istoki kul'turnoi traditsii russkikh starozhilov Nizhnei Kolymy po dannym kompleksnogo issledovaniya, Arktika i Sever. Elektronnyi zhurnal, 16, 144–152.
- Tvorogov, O. V. (1987). ‘«Istoriya Iudejskoj vojny» Iosifa Flavija’, in: Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi. Leningrad: Nauka. Vol. 1, 214––215.
- Vakhtin, N., Golovko, E., Shvaittser, P. (2004). Russkie starozhily Sibiri: Sotsial'nye i simvolicheskie aspekty samosoznaniya. Moscow: Novoe izdatel'stvo, 290 p.
- Veselovskii, A. N. (1881). Yuzhnorusskie byliny, I–III (Sbornik Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoi Akademii nauk; Vol. 22, 2). Saint Petersburg: Tipografiya Imperatorskoi Akademii nauk, 78 p.
- Vizgalov, G. P. (2011). ‘Novye arkheologicheskie issledovaniya Stadukhinskogo poseleniya na Nizhnei Kolyme, rezul'taty i perspektivy kompleksnykh issledovanii’, in: Kul'tura russkikh v arkheologicheskikh issledovaniyakh: mezhdistsiplinarnye metody i tekhnologii. Omsk: Izdatel'stvo Omskii institut (filial) Rossiiskogo gosudarstvennogo torgovo-ekonomicheskogo universiteta, 40–48.
- Zenzinov, V. M. (1913). Russkoe Ust'e Yakutskoi oblasti Verkhoyanskogo uezda, Etnograficheskoe obozrenie, 1/2, 110–235.
- Zenzinov, V. M. (2001). Starinnye lyudi u kholodnogo okeana. Yakutsk: Yakutskii krai, 350 p.
Supplementary files