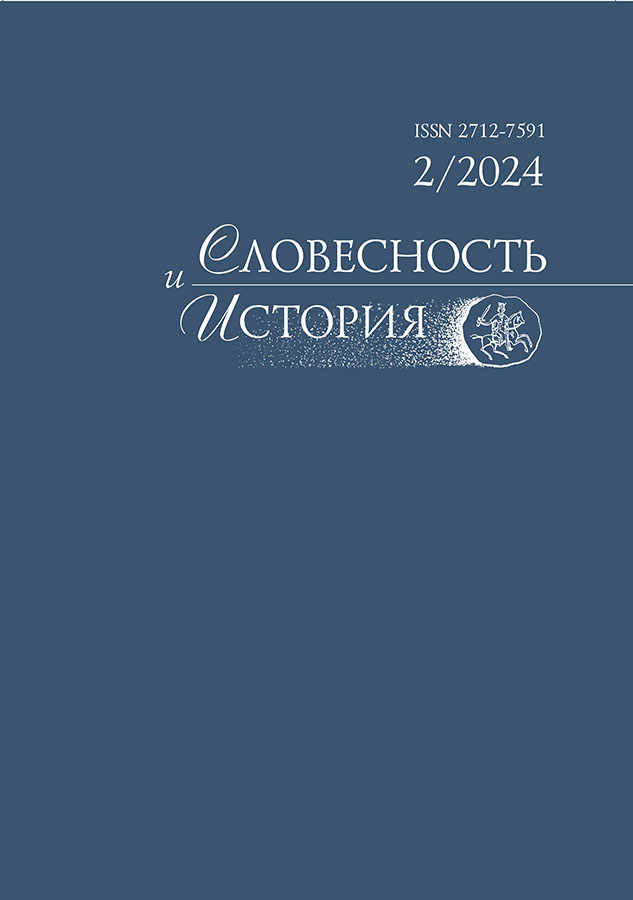Folktales based on epic plots in the folklore tradition of the Perm region: Melkozerova’s folktales
- Authors: Dobrovolskaya V.E.1
-
Affiliations:
- Institute of Slavic Culture of the Kosygin Russian State University (Technologies, Design, Art)
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 48-59
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2712-7591/article/view/276290
- DOI: https://doi.org/10.31860/2712-7591-2024-2-48-60
- ID: 276290
Cite item
Full Text
Abstract
This article examines the repertoire of the folktales recorded from the storyteller Lubov Yakovlevna Melkozerova. The analysis of the folktales shows that they are based on epic plots. This confirms the existence of the epic tradition in the Perm region and allows for the identification of the most popular epic plots in this area. These texts reveal the uniqueness of the Perm folktale tradition with its various types of folktales: tiresome tales, household tales, fairy tales, legends, anecdotes, etc. Tales about heroes form a separate group among these tales. Although they are not numerous, these tales allow us to judge the storyteller's performing skills: her interest in details and formulas, her ability to improvise, and her psychological features and humor. The tales were recorded from Melkozerova late in her life. Since she had not performed them for a long time, she remembered most of the plots only in general at the time of the recording. Nonetheless, the existing recordings suggest that Melkozerova was a good performer with her own style.
Full Text
Былинная традиция в Пермском крае привлекала внимание исследователей. Наиболее подробный на сегодняшний день обзор собирательской деятельности в данной области приведен в статье А. В. Черных [Черных]. Т. Г. Иванова в своем монографическом исследовании [Иванова] подробно разбирает былинные тексты, зафиксированные на территории Пермского края. Автор останавливается на текстологических особенностях материала данной территории, былинных сюжетах, присущих региону, и т. п.
Однако помимо собственно былин, в этом регионе зафиксированы прозаические тексты на былинные сюжеты. К. Э. Шумов в своей статье отмечает, что в одной из его экспедиций было записано более двадцати подобных текстов [Шумов, с. 45]. Обычно наличие текстов на былинные сюжеты рассматривается как своеобразное подтверждение существования былинной традиции. Данные тексты можно разделить на две группы. К первой группе, как заметил М. К. Азадовский, относятся тексты, утратившие «напев и целостную структуру былины», но сохранившие «еще во многих случаях размер и другие элементы былинной формы» [Азадовский, c. 213]. Другая же группа текстов связана с былинами только сюжетом, «вся же художественная структура, весь стиль полностью соответствуют жанру сказки» [Астахова 1962, с. 3].
Вопрос о взаимодействии эпоса и сказки в последнее время становится постоянным предметом обсуждения исследователей [Алиев; Бурыкин; Джапуа; Насиб; Салмин; Селеева; Хусаинова 2010; 2011]. Однако в большинстве случаев в этих работах рассматриваются различные аспекты взаимодействия живой эпической традиции со сказочной, которая также находится в стадии активного бытования.
В русской фольклорной традиции Пермского края ситуация иная. В ХХ в. былины на данной территории практически не фиксировались, а сказочная традиция бытовала довольно активно, хотя, конечно, к концу ХХ в. она стала затухать. Именно в это время, в 1997 г., участники экспедиции Пермского государственного университета и Пермского областного краеведческого музея под руководством А. В. Черных в Ординском районе записали от Любови Яковлевны Мелкозёровой сказки на сюжеты былин. Эти тексты были опубликованы в нескольких изданиях и в приложении к статье А. В. Черных в научном альманахе «Традиционная культура» [Преженцева, Черных; Русские народные сказки Пермского края, с. 61–66; Русские сказки Пермского края, с. 65–70; Черных, с. 36–39].
Любовь Яковлевна Мелкозёрова родилась в 1910 г. в д. Колоба (Колобы), находившейся на территории современного Уинского района Пермского края (в настоящее время деревня не существует). Запись проводилась в с. Шарынино Ординского района, где на тот момент она проживала. Сведения о ее жизни очень скудны. Мы знаем, что свои сказки она узнала от матери и теток. По словам Любови Яковлевны, хорошее знание «старинной» жизни связано с тем, что она в детстве слышала много рассказов и сказок от родственников: «Много рассказывали. Мама рассказывает, а мы не спим, уши развесим, не спим, много че рассказывали...» [Русские сказки Пермского края, с. 173]. Она была не только знатоком былинных сюжетов, но знала мифологическую прозу и предания, рассказывала о быте и нравах своей деревни.
На момент записи сказочница была очень пожилым человеком и не рассказывала сказки довольно долго. Она забывала сюжетные подробности, не могла вспомнить отдельные детали, но даже в этом случае фрагменты сказочных текстов свидетельствуют об оригинальности ее исполнительской манеры.
От Л. Я. Мелкозёровой записано шесть сказок. Одна из них — «Про Степана-царевича» — относится к сюжетному типу СУС 300А «Бой на Калиновом мосту». Данный сюжет распространен в русской сказочной традиции: указателем сказочных сюжетов «Восточнославянская сказка» [СУС, с. 104–105] зафиксировано тридцать вариантов данного сюжетного типа. Исследования последних лет показывают, что вариантов существенно больше. Например, согласно описи русских сказок Пудожского края, в Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН таких текстов пять (№ 3, 4, 324, 492 и 578) [Русские народные сказки Пудожского края, с. 354]. Первая русская публикация данного сюжетного типа представлена в издании «Летописи русской литературы и древности» [Тихонравов]. Уральский вариант опубликован в книге Л. Г. Барага [Бараг, № 9], пермский вариант известен по сборнику Д. К. Зеленина [Зеленин, № 9].
Само повествование довольно сумбурно. Сказочница помнила основной мотив сказки о бое со змеем на мосту, но явно сбивалась на богатырскую сказку об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. При этом она не смогла вспомнить ни тот ни другой сюжет полностью, но воспроизвела эпизод о свисте побежденного Соловья по приказу богатыря перед княжеским теремом, хотя основными противниками героя были три Идолишша Поганых, а появление Соловья-разбойника можно рассматривать как некое дополнительное испытание:
«— Ну-ко, — говорит, — Розбойник, Соловей-розбойник, сосвисти.
Он как сосвистел — даже маковки-ти, с етого, с дворца, политили. Кругом было, тожо все было… Тот закрицал, князь-от:
— Хватит, хватит, хватит, не надо!» [Русские сказки Пермского края, с. 66].
Вероятно, сказочница давно не рассказывала сказок, хотя некогда знала их хорошо. Л. Я. Мелкозёрова точно передает последовательность эпизодов, однако путает имена героев (называет Степана-царевича Добрыней) и некоторые их действия. Так, в данном тексте отсутствует мотив чудесного рождения братьев. В большинстве вариантов жены змеев превращаются в разные предметы, а у Любови Яковлевны они все принимают образ «койки под яблоней». Из текста не ясно, как герой узнал о мщении жен противников за мужей. В традиционных вариантах данного сюжетного типа герой превращается в кота или птицу, переходит или перелетает мост и подслушивает разговор змеих.
Сказочница довольно схематично передает сюжет, однако прекрасно помнит формулу хвастовства противника:
Хто этот мос мостил,
Меня за реку пустил?
Ехать бы мне, переехать бы мне,
Нет со мной поединьшычка,
Да нет со мной супротивницька.
Есь Степан-царевиць,
Да он ишо в колыбеле качается
[Русские сказки Пермского края, с. 65].
Нельзя не отметить и довольно редкий для русской сказочной традиции мотив создания поля боя: «…дунь по реке, чтобы река помедневела, бережки поджарились!» В большинстве вариантов, где он все-таки имеется, змей-противник обычно создает ледяной мост или медный ток.
Остальные тексты, записанные от Любови Яковлевны, представляют собой собственно сказки на былинные сюжеты. Надо сразу отметить, что ряд текстов функционируют в этом качестве и отмечены в указателе сказочных сюжетов, а другие в нем не зафиксированы.
Сказка «Про Илью Муромца» относится к широко распространенному в русской традиции сюжетному типу сказок на былинный сюжет СУС 650С* «Илья Муромец». Русских текстов данного сюжетного типа опубликовано пятьдесят. Первая публикация вошла в сборник 1787 г. «Повествователь русских сказок» [Повествователь, с. 3–25]. Кроме единственного пермского варианта из сборника Д. К. Зеленина [Зеленин, № 16], других пермских или уральских текстов в указателе сюжетов не отмечено.
Для русской традиции наиболее типичным сказочным сюжетом об Илье Муромце является сказка о его бое с Соловьем-Разбойником. Л. Я. Мелкозёрова, видимо, его знала, поскольку пыталась рассказать его в рамках сказки «Про Степана-царевича». Однако в Пермском крае был известен и другой подвиг Ильи Муромца, в котором реализуется сюжет былины о том, как Идолище захватил Царьград, взял в плен Константина Боголюбовича и как с ним не смог справиться «могуче-то Иванище» [Онежские былины, № 48]. Такой текст был записан в д. Мутиха Красновишерского района Пермского края от Тамары Егоровны Филиппович, 1921 г. р., уроженки деревни Акчим, и опубликован в сборнике [Русские народные сказки Пермского края, № 63]. В сказке Т. Е. Филиппович нет ни Царьграда, ни его правителя, ни Иванища, но есть царь, к жене которого «Идолище поганый пришел, стал жить, сидит, жрет, а царь у них заместо прислуги, исть готовит и подает» [Русские народные сказки Пермского края, с. 151]. В этом тексте есть Калика Перехожий: «Сам грузный, тихий, и конь у него такой» [Русские народные сказки Пермского края, с. 151]. У этого Калики есть «костыль сто пудов и шляпа полтораста пудов» [Русские народные сказки Пермского края, с. 152]. Именно эти вещи и обменивает Илья на свои и с помощью костыля и шляпы убивает противника: «Илья Муромец шляпу с головы снял, в Идолище бросил, попал ему шляпой в грудь, тот с простенком на улицу вылетел, там Илья Муромец его еще палицей пристукнул и сказал: „Не человек человека убил, а царя освободил“» [Русские народные сказки Пермского края, с. 152]. В былине есть дверь, выбитая Ильей и убившая нескольких приспешников Идолища, и есть простенок терема, который Илья выбивает самим Идолищем. Видимо, эти образы поразили сказочницу или того, от кого она узнала сказку, и именно поэтому они сохранились в сказочном тексте.
Данный текст является переработкой одного былинного сюжета, в то время как в большинстве случаев сказки об Илье Муромце представляют собой объединение нескольких сюжетов былинного эпоса. Мы не знаем, был ли в репертуаре Л. Я. Мелкозёровой текст про Илью и Идолище, но то, что она знала контаминированный текст и явно хотела рассказать не только об исцелении Ильи, но и о его битве с Соловьем-разбойником, не вызывает сомнения. Именно поэтому в сказке появляется город Чернигов. Однако хорошо помнила Любовь Яковлевна только сюжет об исцелении богатыря. В нем есть и страннички, приходящие в избу лежащего на печи Ильи, и чудесная вода, которая исцеляет героя. Сказочница сохранила формулу, с помощью которой в былинах описывается процесс исцеления героя: герой трижды выпивает поданную ему чашу и после этого начинает двигаться. Появляется в сказке и другая формула: Илья Муромец говорит о небывалой силе, которую он приобрел, когда выпил чудесной воды: «А мне бы <…> чейчас кольцё в землю, ак я бы всю землю поворотил» [Русские сказки Пермского края, с. 67]; присутствует также мотив убавления силы. Все это свидетельствует о том, что исполнительской манере Любови Яковлевны были свойственны внимание к деталям и формульности.
Использовала она и мотив первого применения силы Ильи, который встречается как в былинах, так и в богатырских сказках: герой помогает родителям в корчевке леса. Сохраняется в сказке даже мотив благословения героя: «За друга стой <…> а за недруга не стой». Однако сюжет о бое с Соловьем сказочницей практически забыт и передается отрывочно.
Еще одна сказка — «Про сорочинскую змею» — не имеет соответствий в СУС. Героических сказок о Добрыне вообще известно не много. О бое Добрыни и змеи зафиксировано всего четыре текста, три из которых объединяют несколько сюжетов:
- Добрыня и змея + Добрыня и Настасья Микулична + Добрыня и Алеша [Коргуев, № 40].
- Добрыня и Маринка + Добрыня и змея + Добрыня и Алеша [Былины Печоры, № 75].
- Женитьба Добрыни + Добрыня и Алеша [Королькова, с. 33–43]. Единственная запись сказки, построенная на сюжете былины о бое Добрыни на Почай-реке, включена в сборник А. М. Астаховой [Астахова 1938, прил. I, № 3]. Таким образом, текст, записанный от Л. Я. Мелкозёровой, является пятой сказкой о Добрыне и вторым текстом, построенным только на сюжете былины о Добрыне и змее.
В сказке Любови Яковлевны отсутствует такой важный для былинного текста персонаж, как мать Добрыни, которая запрещает ему ездить в Сорочинские горы и купаться в Почай-реке. В рассматриваемом тексте о матери героя напоминает только сплетенная ею плеточка из семи шелков.
Иначе, чем в былинах, реализуется и диалог змеи и богатыря. И в сказке, и в былинах змее предсказана смерть от руки Добрыни, и Л. Я. Мелкозёрова сохранила данный эпизод: «Неправду <…> тебе, Добрынюшка Никитич, святые отцы написали на святых воротах, что Добрынюшка Никитич должен, — говорит, — меня победить» [Русские сказки Пермского края, с. 68]. И в былине, и в сказке змея объясняет эту «неправду» тем, что она может убить беззащитного богатыря. Однако в былине герой возражает: «…нагого сглотить да будто мертвого» [Онежские былины, № 289], тем самым предлагая змее выбрать равный бой. В сказке Любови Яковлевны ответ героя даже не подразумевает боя, змея не сможет насладиться своей победой над богатырем, поскольку все скажут, «что Добрынюшка Никитич в Почай-реке купался да, это, утонул» [Русские сказки Пермского края, с. 67]. Интересно и продолжение диалога в сказке. Добрыня заставляет змею отвернуться, поскольку она женщина, а он обнажен и может ее смутить: «Отвороти <…> большие-де свои шары, ведь ты женшына, а я <…> мушшына. Я хоть <…> одежду надяну на себя-то» [Русские сказки Пермского края, с. 67]. Воспользовавшись доверчивостью змеи, герой совершает своеобразный маневр и побеждает ее. Подобное решение эпизода свидетельствует о юморе исполнительницы, некоем озорстве, свойственном обычно сказочникам-импровизаторам. Концовку текста, которая, видимо, должна соответствовать сюжетному типу СУС 974* «Добрыня Никитич», сказочница при исполнении этого текста забыла.
Однако позднее от нее была записана еще одна сказка — «Про Алёшеньку Поповича», которая как раз относится к сюжетному типу СУС 974* «Добрыня Никитич». Русских вариантов этой сказки известно четыре. Два из них принадлежат выдающимся сказочникам М. М. Коргуеву [Коргуев, № 40] и А. Н. Корольковой [Королькова, с. 33–43]. Именно этот сюжет исполнительница не смогла вспомнить, когда рассказывала сказку «Про сорочинскую змею». В данном случае Любовь Яковлевна, хоть и схематично, вспомнила о бое Добрыни с богатыркой, женитьбе на ней, отъезде героя и его наказе. Затем она довольно подробно рассказала о происках Алеши Поповича, сопротивлении жены Добрыни и приказе князя о свадьбе.
Основной конфликт былины заключается в нарушении Алешей Поповичем запрета жениться на жене крестового брата. В тексте «Про сорочинскую змею» сказочница упоминает о крестовом братстве: «А этот, Лешенька Попович, опять у них не везло ведь: „Ведь ты, — говорит, — мне крестовой брат. Ведь, Добрынюшка, — говорит, — мы в одной воде крешшоны...“» [Русские сказки Пермского края, с. 67]. Наиболее подробно сказочница рассказывает о возвращении Добрыни, его узнавании по родимому пятну и его присутствии на свадьбе. Все это свидетельствует о любви сказочницы к деталям, создании ею предметного мира сказок.
Сюжет, связанный с мотивом верной жены, реализуется и в другой сказке Л. Я. Мелкозёровой — «Про князя Владимира». Текст относится к сюжетному типу СУС 888 «Жена вызволяет мужа». В русской традиции существуют сказки о женщине в мужском платье, которая спасает мужа или отца (подробнее об этом см.: [Добровольская]). Однако, помимо немногочисленных собственно сказочных текстов, в русском репертуаре представлены сказки, возникшие под влиянием былины о Ставре (см., например: [Потявин, № 5]). К ним относится и сказка Любови Яковлевны.
Текст интересен тем, что в нем сохраняются фрагменты тонического стиха былинного типа: «У князя Владимира было пированьё, было столованьё. И все при беседушке росхвалилися. Кто хвастат силую, кто хвастат молодой женой, кто хвастат старой матерью, кто хвастат добрым, добрым конем» [Русские сказки Пермского края, с. 70]. Можно предположить, что сказочница слышала былину в живом исполнении, но и влияние книги исключать нельзя.
В былинных текстах одной из примет того, что ханский посол — женщина, являются дырочки в ушах от сережек. В варианте Л. Я. Мелкозёровой Василиса Тимофеевна забывает вынуть сережки из ушей: «Взяла свои волосы остригла по-молодецки. А только забыла добыть сережки из ушей» [Русские сказки Пермского края, с. 70]. Но никто на этом основании не заподозрил героиню в том, что она переодетая в мужчину женщина. Сережки появляются только в конце повествования, когда герои встречаются как поединщики.
Текст довольно схематично передает сюжет былины, но исполнительница сохраняет имена героев и основную коллизию: хвастовство женой и переодевание женщины в мужское платье.
Наконец, еще одним текстом, записанным от Любови Яковлевны, является крайне схематичный пересказ былины о Святогоре. Обычно в богатырских сказках этот сюжет включается в повествование, связанное с Ильей Муромцем. Но поскольку исполнительница помнила лишь отдельные фрагменты текста, мы не можем говорить о том, как он функционировал в ее репертуаре.
Анализ сказок Л. Я. Мелкозёровой показывает, что исполнительница владела этой традицией и, возможно, слышала не только сказочные тексты, но и сами былины от своих старших родственников. Ее репертуар достаточно интересен, в нем есть редкие сюжетные типы и нетипичные для богатырских сказок соединения сюжетов и мотивов. К сожалению, совершенно очевидно, что на момент записи сказочница долго не рассказывала сказки, поэтому тексты в большинстве своем переданы схематично, многие сюжетные ходы забыты. Но детали, используемые ею в сказках, указывают на то, что она была хорошей сказочницей. Забыв сюжет, она использовала те детали, которые помнила, понимая, что они подходят для дальнейшего повествования. Она сохранила в своих сказках элементы былинного стиха, что наиболее ярко видно в сказке «Про князя Владимира». Ее текстам свойственно обилие деталей, создание предметного мира сказки. Свойственен сказочнице и юмор.
Безусловно, сказки на былинные сюжеты являются аргументом в пользу существования на данной территории былинной традиции. С их помощью можно предположить, какие былинные сюжеты были здесь распространены и пользовались особой популярностью. Но в то же время данные тексты свидетельствуют и о своеобразии сказочной традиции региона. Если бы в нашем распоряжении оказались более ранние записи Л. Я. Мелкозёровой, то они позволили бы рассмотреть источники формирования ее сказочного репертуара, влияние на него книги или устной традиции. Возможно, мы могли бы подробнее проанализировать мастерство сказочницы. Но и записанные от нее тексты дают нам возможность говорить об особой исполнительской манере Любови Яковлевны и ее своеобразном репертуаре.
About the authors
Varvara E. Dobrovolskaya
Institute of Slavic Culture of the Kosygin Russian State University (Technologies, Design, Art)
Author for correspondence.
Email: dobrovolska@inbox.ru
канд. филол. наук, доцент Института славянской культуры
Russian Federation, MoscowReferences
- Aliev, O. S. (2019). ‘Problemy mezhzhanrovoi svyazi skazki i eposa (na materiale azerbaidzhanskoi literatury)’, Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Vol. 12, 11, 103–108.
- Astakhova, A. M. (1938). Byliny Severa. Moscow, Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR. Vol. 1. Mezen' i Pechora, 654 p.
- Astakhova, A. M. (1962). Narodnye skazki o bogatyryakh russkogo eposa. Moscow, Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 120 p.
- Astakhova, A. M. et al., eds. (1951). Onezhskie byliny, zapisannye A. F. Gil'ferdingom letom 1871 goda. Moscow, Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR. Vol. 3, 671 p.
- Astakhova, A. M. et al., eds. (1961). Byliny Pechory i Zimnego berega: (Novye zapisi). Moscow, Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 606 p.
- Azadovskii, M. K. (1947). ʻO russkoi skazochnoi traditsii v Karelii’, in: M. K. Azadovskii, ed., Russkie skazki v Karelii: (Starye zapisi). Petrozavodsk: Gosudarstvennoe izdatel'stvo Karelo-Finskoi SSR, 5–24.
- Barag, L. G. (1975). Skazki, legendy i predaniya Bashkirii v novykh zapisyakh na russkom yazyke. Ufa: Bashkirskoe knigoizdatel'stvo, 175 p.
- Barag, L. G., Berezovskii, I. P., Kabashnikov, K. P., Novikov, N. V., eds. (1979). Sravnitel'nyi ukazatel' syuzhetov: Vostochnoslavyanskaya skazka. Leningrad: Nauka, 437 p.
- Burykin, A. A. (2018). ‘Kriterii kharakteristiki zhanra bogatyrskoi skazki i osnovnye otlichiya bogatyrskikh skazok ot obraztsov eposa’, Vestnik Kalmytskogo instituta gumanitarnykh issledovanii Rossiiskoi akademii nauk. Vol. 11, 4 (38), 135–155.
- Chernykh, A. V. (2020). ‘Vnov' k voprosu o bytovanii bylin v Permskom Prikam'e’, Traditsionnaya kul'tura. Vol. 21, 4, 29–40.
- Chernykh, A. V., ed. (2004). Russkie narodnye skazki Permskogo kraya. Perm': Permskoe knizjnoe izdatel'stvo, 280 p.
- Chernykh, A. V., Dobrovol'skaya, V. E., Rusinova, I. I. et al., eds. (2020). Russkie skazki Permskogo kraya v zapisyakh kontsa XX — nachala XXI veka. Saint Petersburg: Mamonov, 239 p.
- Dobrovol'skaya, V. E. (2008). ‘Motiv «sokrytiya devushkoi svoego pola» v slavyanskom fol'klore’, in: Zbornik na rezimea. Skopje: [s. n.]. Vol. 2, 143–144.
- Dzhapua, Z. D. (2016). ‘Nartskii epos i volshebno-geroicheskaya skazka’, in: Nartovedenie v 21 veke: problemy, poiski, resheniya. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Magas: [s. n.], 40–54.
- Ivanova, T. G. (2001). «Malye» ochagi severnorusskoi bylinnoi traditsii: Issledovaniya i teksty. Saint Petersburg: Dmitrii Bulanin, 454 p.
- Khusainova, G. R. (2010). ‘Bashkirskaya narodnaya skazka i epos: k probleme vzaimodeistviya zhanrov’, Vestnik Bashkirskogo universiteta. Vol. 15, 3–1, 1078–1079.
- Khusainova, G. R. (2011). ‘Bashkirskaya narodnaya skazka i epos: obshchie mesta’, Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 17 (232), 167–171.
- Korguev, M. M. (1938). Belomorskie skazki, rasskazannye M. M. Korguevym. Moscow, Leningrad: Sovetskii pisatel', 256 p.
- Korol'kova, A. N. (1969). Russkie narodnye skazki. Rasskazany A. N. Korol'kovoi. Moscow: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 406 p.
- Nasib, T. (2021). ‘Tipologicheskie osobennosti povestvovanii skazki i eposa’, in: Yazyk, obshchestvo, lichnost' i tvorchestvo Nizami Gyandzhevi. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya. Sumqayit: [s. n.], 101–103.
- Pomerantseva, E. V., Razumova, A. P., Sen'kina, T. I, eds. (1982). Russkie narodnye skazki Pudozhskogo kraya. Petrozavodsk: Kareliya, 366 р.
- Potyavin, V. M. (1960). Narodnaya poeziya Gor'kovskoi oblasti. Gor'kii: [s. n.]. Vol. 1: Skazki, pesni, chastushki, 448 p.
- Povestvovatel' russkikh skazok (1787). Moscow: Tipografiya Ponomareva, 203 p.
- Prezhentseva, E. S., Chernykh, A. V. (2000). ‘Zapisi bylinnykh syuzhetov v Yuzhnom Prikam'e’, in: Fol'klornyi tekst 99: Materialy nauchno-metodicheskogo seminara. Perm': [s. n.], 3–13.
- Salmin, A. K. (2021). ‘Zhanrovye osobennosti bogatyrskikh skazok: teoreticheskie izyskaniya’, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya, 70, 285–297.
- Seleeva, Ts. B. (2016). ‘Ob arkhaicheskikh rudimentakh bogatyrskoi skazki v epose «Dzhangar»’, Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta imeni M. K. Ammosova. Seriya: Eposovedenie, 2 (2), 74–79.
- Shumov, K. E. (1998). ‘Bytovanie epicheskoi traditsii v Prikam'e’, in: Fol'klornyi tekst — 98: Sbornik dokladov nauchnoi konferentsii. Perm': [s. n.], 43–48.
- Tikhonravov, N. (1861). ‘Skazka ob Ivane Belom’, in: Letopisi russkoi literatury i drevnosti, izdavaemye Nikolaem Tikhonravovym. Moscow: Tipografiya Grachev i Ko. Vol. 3, pt. 3, 8–14.
- Zelenin, D. K. (1914). Velikorusskie skazki Permskoi gubernii. Petrograd: Tipografiya A. V. Orlova, LIII, 656 p.
Supplementary files