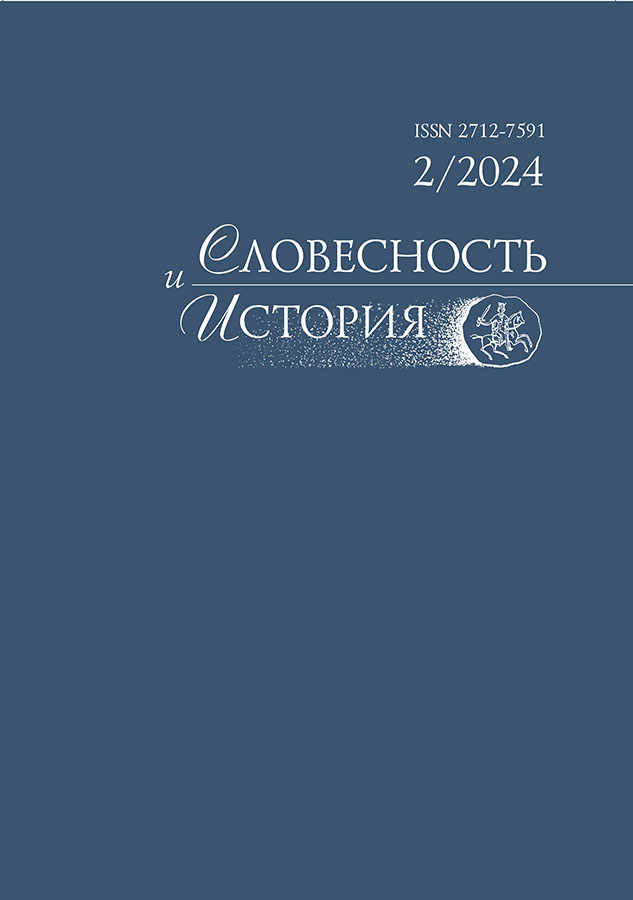Synergetics of folklore contacts
- Authors: Panyukov A.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Language, Literature and History of the Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 60-71
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2712-7591/article/view/276291
- DOI: https://doi.org/10.31860/2712-7591-2024-2-60-71
- ID: 276291
Cite item
Full Text
Abstract
The study of interethnic folklore interactions, including the problem of «folklore bilingualism», requires a comprehensive, interdisciplinary approach. One of the interdisciplinary areas that applies to folklore interactions is synergetics, which studies the behavior of complex systems of a different nature. The author confirms the main parameters of the folklore tradition as a complex, self-organizing system that is capable of a long-term quasi-stable existence. By maintaining its plasticity, the tradition can resist small perturbations and restore the «gaps» and deformations that inevitably arise at different points. Nevertheless, under the constant, intensifying influence of the external environment, this disequilibrium begins to increase rapidly. When the critical threshold value is reached, the system jumps to a new, again quasi-stable, state and acquires new, often completely unexpected, order parameters, which have a probabilistic character. The key role in such transitions is played by folklore borrowings as random and alien factors. The author examines the Izhma-Kolva folklore tradition as an object of a synergetic study of the processes that are associated with the birth of a new culture with emergent properties. The article considers several interrelated factors that determined the special features of the subculture of the reindeer herders, which developed as a result of the contacts between the Izma Komi group and the Kolva Nenets group. The study also analyzes how these factors determined the uniqueness of the bi-ethnic and bilingual «Performer—Text—Audience» folklore system that emerged among those people.
Full Text
Одной из самых цитируемых работ Андрея Николаевича Власова можно назвать совместную с В. В. Филипповой статью «Фольклорное двуязычие в традиционной культуре коми» [Власов, Филиппова], принципиально изменившую отношение не только к проблемам коми-русских фольклорных взаимосвязей, но и к проблеме происходящих на наших глазах ассимиляционных процессов. Несомненно, А. Н. Власов обладал уникальным опытом полевой работы в контактных зонах, в том числе и работы с бытовым двуязычием, которое, по его мнению, связано и с этногенетическими и этнокультурными процессами. Регион коми-русского пограничья, с которым в основном связан сыктывкарский период его жизни, определил стратегическую составляющую, ставшую сквозной для его научной жизни: исследование контактных зон коми и русской традиций и изучение характерного для межэтнической среды феномена культурного двуязычия. Его собственная концепция может быть представлена как попытка связать воедино и историческую глубину, и разнообразие локально-специфических проявлений этого феномена: «Культурное двуязычие, распространенное по всей территории Севера, по сути, — результат встречи на одном пространстве нескольких стадиально разобщенных типов мировоззрения: языческого и христианского, родового и государственного. Достаточно поздние и медленные темпы культурного освоения „пустого“ пространства обусловили возникновение локальных центров на всей территории Севера с ярко выраженной доминантой регионального сознания и присущим для него культом предка. Отсюда вытекает и стремление закрепить на практике архаические виды и формы народной традиции, отчасти языка» [Власов 2022, с. 164]. Эти положения весьма ярко проявляются в исследованиях А. Н. Власова, связанных со становлением коми эпоса [Власов 2004]; его концепция оказалась органично «вписана» в общий контекст проблематики этнокультурного билингвизма [Дорохова]. Вполне ожидаемо, что А. Н. Власов отталкивается от концепции «встречных течений» А. Н. Веселовского, согласно которой процесс культурных контактов взаимообразен, носит характер «встречных течений» и является избирательным [Власов 2022, с. 152]. Без встречного течения невозможно взаимодействие культур, поэтому в центре внимания исследователей должно быть не только то, что приобретается в процессе культурного обмена, но и то, что происходит с приобретенным в новых условиях «усвояющей среды». Таким образом, перед нами возникает сложная, комплексная проблема, требующая специального рассмотрения на ментально-идеологическом, ритуально-обрядовом, жанровом, сюжетно-тематическом, формульно-стилевом срезах фольклорной культуры [Власов 2022, с. 152]. О необходимости комплексного междисциплинарного подхода к проблеме фольклорного билингвизма на протяжении многих лет говорят и этномузыковеды (см. об этом: [Дорохова]).
Одним из таких междисциплинарных направлений является синергетика, исследующая поведение сложных систем разной природы. Междисциплинарные исследования, использующие методы синергетики, позволяют по-новому оценить результаты открытий как в рамках естественно-научного знания, так и в науках о человеке, обществе, поскольку синергетика «ищет общие принципы эволюции мира» [Князева, Курдюмов, с. 63]. Основная идея синергетики — существование систем, способных к самоорганизации. Самоорганизация в самом общем понимании означает самодвижение, самоструктурирование, самодетерминацию природных, естественных систем и процессов. Сегодня уже очевидно, что процессы структурообразования и самоорганизации в самых разных по своей природе системах происходят в соответствии с небольшим числом сценариев, не зависящих от конкретной системы. Это явление имеет одну и ту же физическую сущность во всех его проявлениях на всех уровнях развития материи, включая и психосоциальный, но различается по качественным особенностям и формам проявления. Язык синергетики только на первый взгляд кажется непроницаемым для ученых гуманитарного профиля, так как оперирует понятиями, пришедшими из естественно-научного цикла. Ряд идей синергетики, например, таких как динамичная структурность, открытость, нелинейность языковой системы, уже давно разрабатывается филологами, в том числе и фольклористами (напр.: [Малкова; Панюков 2009; Рыбакова] и др.), и служит источником интересных гипотез.
Представляя фольклорную культуру в виде сложноорганизованной системы, состоящей из многих взаимосвязанных подуровней или подсистем, и пытаясь навести определенный порядок в наших представлениях о ней, мы невольно конструируем привычную нам модель управления: если есть система, то есть и механизмы управления этой системой, призванные сохранять порядок. И нам кажется неоспоримым тот факт, что порядок в системе фольклора есть результат работы особых механизмов стабилизации, а само понятие «традиция» подразумевает прежде всего межпоколенную передачу определенных (консервативных) правил, законов организации данной культуры, которые направлены на то, чтобы сохранить ее неизменность. В идеале вся традиционная культура как бы ориентирована на точное самовоспроизведение, однако коэффициент полезного действия, т. е. «мера актуализации наследия» такой системы, ограничена ее физическими параметрами (свойства памяти носителей традиции, пределы возможности устной передачи, пределы возможности сопротивляться влиянию внешнего мира и т. п.), и на отдельных участках культуры всегда могут возникнуть сдвиги, «сбои», «ошибки». Таким образом, и в фольклоре всегда есть место и традиционным, и инновационным явлениям.
Исследование любого объекта или явления с позиций синергетики актуализирует его процессуальность, нестабильность и нелинейность развития. Если мгновенный срез традиции можно представить в виде широкого, но конечного списка зафиксированных артефактов, то в реальном бытовании любое фольклорное явление может рассматриваться как отдельная процессуальная стадия его эволюции. С этой точки зрения фольклорный текст как структурно-семантическое единство представляет собой временно организованный участок нелинейной среды, обладающий способностью перемещаться, перестраиваться в ней. И здесь важно понимать, что в самоорганизующейся системе «все течет и меняется» с двумя абсолютно разными скоростями и двумя разными способами. Эволюционная картина всей традиции выглядит как цепь чередований спокойных и сильно неравновесных периодов. Соответственно, система знает два динамичных состояния, которые отличаются и по длительности, и по качеству.
Следуя общесистемному принципу, фольклорная традиция, как и любая неравновесная структура, однажды возникнув вследствие качественного скачка предшествующих последовательных эволюционных изменений, способна к длительному, квазиустойчивому существованию. Основные условия для сохранения такого состояния «устойчивой неравновесности»: открытость внешнему воздействию («постоянная подпитка») и автокатализ, т. е. внутреннее подкрепление флуктуаций (в нашем контексте — вариативности). Состояние «устойчивой неравновесности» фольклорной традиции можно определить как потенциальную готовность к изменениям, к адаптации. Эта потенциальная готовность (образно говоря — пластичность) и обеспечивается фольклорной вариативностью, теми же фольклорными канонами, которые определяют параметры варьирования. Сохраняя свою пластичность, традиция обладает устойчивостью к малым возмущениям и способна восстанавливать неизбежно возникающие на разных участках «пробелы», деформации. Далее под постоянным усиливающимся воздействием внешней среды (инокультурное влияние, давление исторических событий, вмешивающихся в жизнь традиции, экономические или даже экологические изменения и многое другое) эта неравновесность начинает стремительно возрастать — вариативность выходит «из-под контроля традиции» (опять же, образно выражаясь, — традиция становится сверхпластичной, и достаточно любого случайного касания, чтобы придать ей новую форму). Когда это спонтанное, хаотическое разрушение существующих правил, канонов достигает критического, порогового значения, система скачкообразно переходит в новое, опять же квазиустойчивое, состояние с новыми, зачастую совершенно неожиданными параметрами порядка, имеющими вероятностный характер. Это явление в физике называется фазовым переходом. Для фольклорной системы подобный фазовый переход может быть связан с возникновением новых ассоциативных структур: фоносмысловых, ассоциативно-смысловых, образных, межтекстовых, межжанровых ассоциаций и т. д. Эти структуры закрепляют новое квазиустойчивое состояние, возвращая на данном участке или уровне системы «контроль традиции». При этом важно, что любое заимствование, как чужеродный и случайный элемент, может стать причиной такого перехода, но возникающий «скачок» обусловлен параметрами самой системы (или туда, или сюда, но не куда угодно). С точки зрения философии, существование фазовых состояний и переходов обусловлено наиболее фундаментальными свойствами материи — способностью к взаимодействию, а также качественной и количественной определенностью ее форм [Панюков 2011].
Ярким объектом для понимания синергетических принципов межэтнического взаимодействия может быть названа ижмо-колвинская традиция, известная прежде всего в связи с открытием севернокоми эпоса. Коми фольклористы побывали во всех районах проживания коми оленеводов, расселившихся по обе стороны Уральских гор, им удалось записать около полусотни эпических произведений, которые и составили ядро этой фольклорной традиции. Ту культуру, которую застали собиратели, едва ли можно было бы назвать процветающей, тем не менее фольклористам удалось записать репертуар целого ряда талантливых исполнителей, эпические песни которых опубликованы в нескольких фольклорных сборниках [Микушев; Коми народный эпос; Vászolyi–Vasse; Фольклор коми и ненцев; Фольклор зауральских коми]. Эта традиция может быть рассмотрена как уникальный объект синергетического изучения процессов, связанных с рождением новой культуры с эмерджентными, ранее не присущими ни одной из контактирующих традиций, свойствами. Уникальность этой фольклорной культуры связана и с тем, что ее рождение и угасание происходило в исторически обозримом времени и пространстве.
Общую картину зарождения этой самобытной культуры можно представить так: произошло взаимосближение двух абсолютно разных культур — коми-ижемцы за короткий срок (конец XVIII — первая половина ХIХ в.) освоили оленеводство и мир кочевника, а колвинские ненцы перешли на оседлый образ жизни, переняли язык и обычаи ижемских коми1. При этом ни один из процессов нельзя назвать специфически ижмо-колвинским: переход к оседлости был характерен едва ли не для всех ненцев Европейского Севера, явление этнической или языковой ассимиляции также нельзя назвать уникальным, знание коми языка было характерно и для других групп ненцев. Здесь важно то, что в ситуации с коми-ижемцами и колвинскими ненцами эти процессы приобрели системный, синергетический эффект, вызвавший появление эмерджентных свойств, ранее не присущих ни ненцам, ни коми-ижемцам.
Очевидно, что это сближение было бы невозможным без религиозного единения. Обособление этнографической группы колва-яран тесно связано с распространением христианства среди европейских ненцев. В 1827 г. чуть выше устья р. Колвы была основана православная церковь, ставшая впоследствии центром формирования новой волости (ныне — Усинский р-н Республики Коми). К концу века ненцы Колвинской волости и более южных районов в большинстве своем были уже православными и вели, как и ижемские оленеводы, полукочевой образ жизни. В начале прошлого века здесь появляются и другие поселения-выселки оседлых ненцев, основанные выходцами из села Колва. Смена религии и восприятие оседлости обусловили упрочение межнациональных браков. Выходя замуж за оседлых и уже принявших православие колвинских ненцев, коми-ижемки без особых затруднений приносили в новую жизнь свой язык, свои обычаи, свое лирическое мировосприятие, а мужчины — носители эпического мира, эпических знаний, принимая ижемский образ домашней жизни, при этом еще долго оставались оленеводами-кочевниками. В фольклорной культуре это «внутрисемейное двоемирие» соотносимо с двумя основными жанрами данной традиции — мужскими эпическими богатырскими песнями и женскими песнями-импровизациями нуранкыв.
Переход к оседлости и полукочевому оленеводству привел к возникновению особого «социально-экономического» двоемирия, совмещающего и деревенский космос (в зимний период), и мир кочевника. В контексте бытования фольклорной традиции это двоемирие создавало две отличающиеся по языку, составу и эстетическим вкусам аудитории и, соответственно, два фольклорных мировосприятия, на которые были ориентированы певцы.
Уникальность ижмо-колвинской традиции может быть связана с возникновением особого «религиозно-мифологического двоемирия»: языческого (собственно ненецкого, доминировавшего в тундровых условиях, где и ижемские оленеводы становились в определенном смысле язычниками и соблюдали основные правила этого мира) и православно-христианского (коми-ижемского), которое, в отличие от официального православия, само уже представляло вариант народно-православного двоемирия, адаптированного для быстрого восприятия иноверцами, а главное — соответствующего новому образу жизни (подробнее об этом см.: [Панюков 2015; 2018]).
Таким образом возникла особая субкультура с уникальной фольклорной системой «Исполнитель — Текст — Аудитория», биэтничной и двуязычной в своих истоках. Опять же можно говорить об удвоении потенциала этой системы. Это касается как репертуара, вобравшего и ижемский фольклор, так и повышенного статуса исполнителей (и коми, и колвинских ненцев) и аудитории. Колвинские ненцы обрели мир коми-ижемского фольклора, а ижемские оленеводы обрели мир тундры: освоили терминологию оленеводов, топонимику, в том числе и сакральную, освоили, насколько смогли, сказочно-мифологический хронотоп ненецких сказаний. Летом основными слушателями эпических сказителей становились кочующие по тундре оленеводы. Здесь, вероятно, стоит отметить и то, что на саму ситуацию исполнения оказывал влияние и ижемский чум — более просторный и имеющий центральное «общее» помещение с очагом и красным углом напротив входа. В отличие от небольших семейных чумов, используемых тундровыми ненцами, ижемский чум давал возможность для общего досуга, на котором сказители играли главную роль. Зимой основными слушателями становились жители поселений, возле которых зимовали стада. Очевидно, со временем комиязычная аудитория стала основной, и именно ее предпочтения стали определять стратегию исполнителей.
Вероятно, сама постановка вопроса о заимствовании здесь некорректна. Большинство эпических сказителей, с которыми работали собиратели в середине прошлого столетия, были «колва яран» (колвинскими ненцами). Именно они были основными переводчиками и импровизаторами, ориентирующимися на ожидания аудитории. Несомненно, большинству этих произведений присуще яркое авторское начало, которое нетрудно заметить в записанном репертуаре. Этот репертуар и стал основой субкультуры ижемских оленеводов, ассимилировавших самих колвинских ненцев. Соответственно, ижмо-колвинский эпос — это ассимилированный, то есть инкорпорированный в субкультуру, а не заимствованный фольклорный пласт.
И здесь наиболее ярко проявился нелинейный, вероятностный характер инноваций. В новой фольклорной системе не оказалось места для летающих воинов, устанавливающих свое господство над пантеоном богов: ненецким словом сюдбабц обозначается не только эпический жанр, но и само племя летучих богатырей. Герои сюдбабц летают на луках, кочуют на облаках, завоевывают вселенную, громя чудищ и богов. Ижмо-колвинский образ Сюдбея, хватающего со средней нарты гранату, уже никак не связан с ненецким великаном-людоедом, но абсолютно органичен для новой «сказки», в финале которой дочь Сюдбея счастливо выходит замуж. Не менее жесткие изменения связаны и с исходными темами ненецких ярабц (от яр — ʻплачʼ) — песен о людях, чьи злоключения оканчиваются победой и воплощением в богов или родовых духов. Нет в ижмо-колвинской сказительской традиции и персонажа — Слова, ключевого для ненецкого эпоса2. Переводу было подвержено только то, что оказалось доступно самому коми языку, фольклорной картине мира коми-ижемцев и, соответственно, эстетическим представлениям слушателей. Так из эпических сказаний возникают «яран мойдъяс» (ненецкие сказки), «сьылэмен яран мойдъяс» (ненецкие поющиеся сказки), «яран мойдъяс изьватас кылэн» (ненецкие сказки на ижемском языке). Из двух сказочно-эпических составляющих репертуара — сказок об оленеводческой жизни («яран мойд») и ижемских сказок («изьватас мойд») о «христианской», т. е. крестьянской, жизни возникают уникальные авторские «мутации». Ярким образцом подобного творчества является эпическая песня-сказка «Озыр кöрдорсалöн пи» (Сын богатого оленевода). Образ главного героя Ёнар тэта здесь соединяет в себе черты ненецкого богатыря и находчивого солдата популярных сказок. Собственно, и сюжет произведения представляет собой такую же контаминацию ненецкого эпоса и русской народной сказки, освоенной коми традицией. Главный герой-оленевод едет на войну; там ему удается пробраться в укрепление неприятеля и убить чародея, ковавшего из камня солдат для вражеского войска; после победы герой женится на дочери Хозяина Салехарда, который уговаривает его остаться жить во дворце, чтобы стать следующим хозяином [Фольклор коми и ненцев, с. 126–139].
Яркой жанровой инновацией ижмо-колвинской традиции становятся «поющиеся сказки», в стилистику которых вписаны многие эпические и лиро-эпические произведения «сьылэмен яран мойдъяс» (ненецкие поющиеся сказки). Наиболее простым вариантом сочетания коми сказочной и ненецкой песенной эпической традиций может быть названа эпическая песня на сюжет сказки о Царевне-лягушке с типичным эпическим зачином «Прежде жили ненец с ненкой, у них было три сына» [Фольклор коми и ненцев, с. 196–216]. Как отмечает сама исполнительница, эту песню она сложила на основе сказки, которую ей рассказывала мать. По своей тематике (тема героической женитьбы младшего сына), типичному набору эпических персонажей и ключевому для ненецкого богатырского сюжета мотиву стрельбы из луков, а далее — поисков пропавшей стрелы такое музыкально-поэтическое переложение прозаического текста весьма тонко отражает жанрово-тематическую специфику оленеводческой эпики. Отметим, что несмотря на популярность этой сказки и в ненецком, и в коми фольклоре, только в ижмо-колвинской традиции могла возникнуть такая жанровая мутация.
В контексте синергетической парадигмы все описанные выше процессы глубоко взаимосвязаны и с жизнью фольклорной культуры как таковой. И все они вместе, соединившись в единый культурогенный импульс, и вызвали взрывоподобное (всего за несколько поколений) рождение новой фольклорной эстетики и уже неразделимой на этнические слагаемые новой традиции. Возникла особая субкультура полукочевых оленеводов с уникально продуктивной фольклорной системой. Во второй половине прошлого века колвинские ненцы были уже ассимилированы и растворились в оленеводческой культуре коми-ижемцев; субкультура распалась на несколько замкнутых групп (ижемские коми, зауральские коми, коми Большеземельской и Малоземельской тундр, кольские коми), которые «вернулись» к традиционной моноязычной фольклорной системе, уже сильно редуцированной в советский период. Осталось то, что успели записать фольклористы.
1 Центр формирования коми-ижемской этнографической группы — бассейн реки Ижмы, притока Печоры. Предки коми-ижемцев, выходцы с Мезени и верховьев Выми, появились в бассейне реки Ижмы во 2-й половине XVI в., основав Ижемскую слободку. Большое влияние на переселенцев оказали контакты (в том числе брачные связи) с русским населением Усть-Цилемской слободки, а также с европейскими лесными ненцами, которые были ассимилированы коми-ижемцами к середине XIX в. Хозяйство первопоселенцев было основано на товарной охоте на пушного зверя, подсобную роль играли земледелие и животноводство (крупный и мелкий рогатый скот). В конце XVII — начале XVIII в. из-за падения численности пушного зверя стали переходить к крупностадному кочевому оленеводству самодийского типа, формировавшемуся на основе транспортного оленеводства, заимствованного, по-видимому, у лесных ненцев. Распространение оленеводства вызвало переход значительной части ижемцев к кочевому образу жизни, их расселение по широкой территории и появление поселков — центров сбыта и переработки продукции оленеводства. К середине XIX в. ижемские оленеводы заселили бассейны средней и нижней Печоры и Большеземельскую тундру, многие большеземельские ненцы служили у них наемными пастухами [Истомин; Истомин, Лискевич, Уляшев].
2 В ненецком фольклоре есть особые персонажи — «сказительское слово»: Вада, Лаханако, Мынико. Эти персонажи — герои мифов (хэбидя лаханако) или эпических сказаний ярабц и сюдбабц. Персонаж-слово оказывается тем, кто передает картины происходящего и двигает сюжет сказания [Пушкарева, с. 35–42].
About the authors
Anatoly V. Panyukov
Institute of Language, Literature and History of the Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: apankomisc@mail.ru
канд. филол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Russian Federation, SyktyvkarReferences
- Dorokhova, E. A. (2017). ʻEtnokul'turnyi bilingvizm kak predmet mezhdistsiplinarnykh issledovaniiʼ, in: V. E. Dobrovol'skaya, E. A. Dorokhova, I. V. Dynnikova, A. B. Ippolitova, eds., III Vserossiiskii kongress fol'kloristov (Moskva, 3–7 fevralya 2014 goda): Sbornik nauchnykh statei, 5 vols. Moscow: Roskultproekt. Vol. 1: Aktual'nye problemy rossiiskoi fol'kloristiki, 16–30.
- Istomin, K. V. (2004–2017). ʻIzhemtsyʼ, in: Bol'shaya rossiiskaya entsiklopediya, 2004–2017, accessed February 3, 2024, https://old.bigenc.ru/ethnology/text/5673718
- Istomin, K. V., Liskevich, N. A., Ulyashev, O. I. (2017). ʻKomi-izhemskoe olenevodstvo: etnicheskie invarianty i lokal'nye variatsiiʼ, Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii, 4 (39), 114–125.
- Knyazeva, E. N., Kurdyumov, S. P. (1994). Zakony evolyutsii i samoorganizatsii slozhnykh sistem. Moscow: Nauka, 336 p.
- Malkova, A. S. (2006). ʻMifologicheskie syuzhety kak rezul'tat samoorganizatsiiʼ, Sinergetika i iskusstvo, accessed January 4, 2024, http://spkurdyumov.ru/art/mifologicheskie-syuzhety-kak-rezultatsamoorganizacii/
- Mikushev, A. K. (1969). Komi epicheskie pesni i ballady. Leningrad: Nauka, 295 p.
- Mikushev, A. K., ed. (1987). Komi narodnyi epos. Moscow: Nauka, 686 p.
- Panyukov, A. V. (2009). Dinamika razvitiya komi fol'klornykh traditsii v kontekste teorii samoorganizatsii. Syktyvkar: [s. n.], 224 p.
- Panyukov, A. V. (2011). ʻFol'klornaya traditsiya kak samoorganizuyushchayasya sistema: k postanovke problemyʼ, Vestnik Rossiiskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. Seriya «Filologicheskie nauki. Literaturovedenie i fol'kloristika», 9 (71), 34–41.
- Panyukov, A. V. (2015). ʻIzhmo-kolvinskii epos: vstrecha traditsiiʼ, Izvestiya Komi nauchnogo tsentra Ural'skogo otdeleniya Rossiiskoi akademii nauk. Vol. 4 (24), Syktyvkar: Institut yazyka, literatury i istorii Komi nauchnogo tsentra Ural'skogo otdeleniya Rossiiskoi akademii nauk, 30–41.
- Panyukov, A. V. (2018). ʻIzhmo-kolvinskii epos: Ispolnitel' — Tekst — Auditoriyaʼ, Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta imeni M. K. Ammosova. Seriya «Eposovedenie», 1 (9), 31–41.
- Panyukov, A. V., ed. (2009). Fol'klor komi i nentsev Nenetskogo avtonomnogo okruga (v zapisyakh Fol'klornogo fonda Instituta yazyka, literatury i istorii Komi nauchnogo tsentra Ural'skogo otdeleniya Rossiiskoi akademii nauk 1968–1973 godov). Syktyvkar: Kola, 500 p.
- Pushkareva, E. T. (2003). Kartina mira v fol'klore i traditsionnykh predstavleniyakh nentsev: sistemno-fenomenologicheskii analiz: avtoreferat dissertatsii ... doktora filologicheskikh nauk. Moscow: Rossiiskaya academia nauk, Institut etnologii i antropologii imeni N. N. Miklukho-Maklaya, 47 p.
- Rybakova, L. V. (2013). Sinergeticheskaya fol'kloristika. Poryadok v haose fol'klornogo mikromira. Moscow: Progress-Traditsiya, 343 p. (+ CD).
- Vlasov, A. N. (2004). ʻRusskie syuzhety v komi fol'klore. Problemy formirovaniya epicheskikh formʼ, Etnopoetika i traditsiya: k 70-letiyu chlena-korrespondenta Rossiiskoi akademii nauk Viktora Mikhailovicha Gatsaka. Moscow: Nauka, 78–114.
- Vlasov, A. N. (2022). ʻFol'klornoe «dvuyazychie»: aktual'nye problemy rossiiskoi antropologiiʼ, in: A. F. Nekrylova, ed., Puti-pereput'ya sovremennoi fol'kloristiki: sbornik statei i materialov pamyati V. A. Lapina. Saint Petersburg: [s. n.], 151–165.
- Vlasov, A. N., Filippova, V. V. (2000). ʻFol'klornoe dvuyazychie v traditsionnoi kul'ture komiʼ, Traditsionnaya kul'tura, 2, 87–89.
- Yoltysheva, M. I., Korovina, N. S., Panyukov, A. V., eds. (2016). Izsaisa komiyaslön fol'klor (Fol'klor zaural'skikh komi). Syktyvkar: Redaktsionno-izdatel'skii razdel Instituta yazyka, literatury i istorii Komi nauchnogo tsentra, 295 p.
Supplementary files