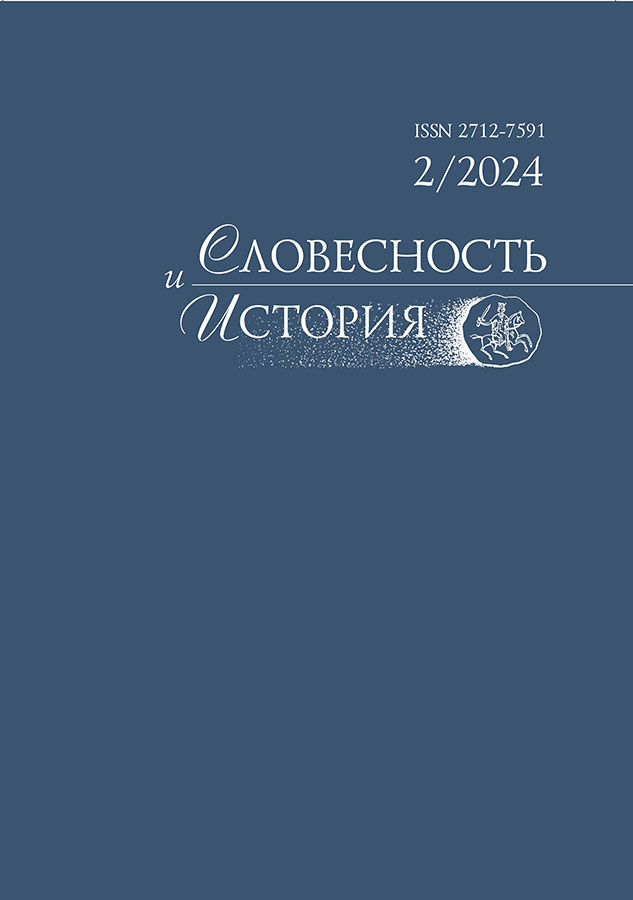Принцип троичности в сюжете Жития Иринарха Ростовского
- Авторы: Лобакова И.А.1
-
Учреждения:
- Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 72-86
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/2712-7591/article/view/276292
- DOI: https://doi.org/10.31860/2712-7591-2024-2-72-86
- ID: 276292
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье анализируется художественный принцип троичности, положенный в основу построения сюжета в Житии Иринарха Ростовского, написанном его учеником иноком Александром в 1620-х гг. Житие пронизано триадами: пророчества, видения, пребывание в трех монастырях, три встречи с ростовским юродивым Иоанном, три предмета аскетического служения, три дара мирян, три инока-последователя в трудах подвижника, три игумена — гонителя святого, три монаха в одном затворе, три встречи с польскими полководцами, три благословения на битву русских воевод. Элементы каждой из триад иногда следуют друг за другом, но чаще отделены значительными фрагментами текста. Рассмотрены эпизоды, содержащие триады, предпринята попытка определить, какова их роль в сюжете произведения и можно ли говорить о влиянии принципа троичности на композицию памятника.
Ключевые слова
Полный текст
Житие Иринарха Ростовского — произведение русской агиографии, многие эпизоды которого посвящены событиям Смутного времени. Оно было написано в 1620-х гг. и уже становилось предметом специального исследования, в котором были рассмотрены история текста и некоторые аспекты его поэтики [Лобакова 2014b; 2014а; 2019]. Еще в 1913 г. С. Ф. Платонов отметил: «Житие преподобного Иринарха — памятник чрезвычайно интересный и по литературным приемам, и по содержанию. Простотою своего рассказа оно приближается к безыскусственному биографическому очерку и содержит в себе много ценных исторических черт» [Платонов, с. 369]. Однако данное утверждение не вполне справедливо: простота изложения, как показывают наблюдения над текстом Жития, только кажущаяся. Сюжет произведения безупречно выстроен, что является безусловной заслугой автора памятника — инока Александра, который выступает и как повествователь-очевидец [Лобакова 2004], и как редактор, и как литературный персонаж. Его первая функция подразумевает знание достоверных фактов жизни учителя; как редактор он создавал текст, отбирая из известных ему событий те, которые считал важными для рассказа о подвижничестве затворника, а как литературный герой присутствовал на страницах собственного произведения, подтверждая истинность произошедшего. Необходимо учитывать, что значительная часть жизни Иринарха была описана Александром с опорой на воспоминания учителя, завещанию которого он строго повиновался: «Еже исперва писано о рожении и о житии, и изъ мира отшествии в мнишеский образ, о трудѣх его, и о терпѣнии, и о изгнании, и о постѣ, и о молитвѣ, и о пророчествии, и о видѣнии, и о глаголании, и о благословении, и о чюдесѣхъ и — повелѣ ми вся сия по преставлении своемъ написати (выделено мною. — И. Л.)» [Житие Иринарха Ростовского, с. 506]1.
Как показал анализ текста памятника, главным художественным приемом при создании сюжета Жития Иринарха Ростовского стал принцип троичности2. Александр проводил этот принцип последовательно, но так переплетая элементы триад в своем повествовании, «отрывая» их друг от друга, что прием не всегда прочитывается с легкостью.
Задача настоящей статьи — показать, какие эпизоды содержат мотивы, образующие триады; какие факты биографии затворника оказываются подчеркнуты ими, какова их роль в сюжете Жития, а также установить, подчинена ли принципу троичности композиция памятника.
Появление первой триады фиксируется уже в начальной части произведения. Традициям агиографического канона следует лаконичное изложение обстоятельств рождения у благочестивых родителей младенца Ильи (имя Иринарха до пострига). В эпизоде, посвященном детству героя, сообщается о первых трех чудесах, связанных с ним. Автор упоминает, что малыш развивался быстрее иных младенцев: «…двадесяти бо пяти недѣль на ноги пошел» (с. 464). Согласно сообщению агиографа, ребенок пошел в неполные шесть месяцев, что может быть воспринято исключительно как чудо. Вторым проявлением чудесного в памятнике стало первое пророчество шестилетнего мальчика: «„Какъ возрасту и постригуся, и буду мнихъ, и желѣза ми носити на себѣ, и тружатися ми Богу, и буду учитель и наказатель всѣмъ людемъ“ <…> И збысться пророчеству его слово» (с. 464). При этом если слова о желании стать иноком можно рассматривать в качестве детского решения о возможном выборе жизненного пути, то знание о ношении вериг и о том, что он станет учителем и наставником другим людям, является провидческим, что подчеркнуто замечанием создателя Жития. Третье чудо Ильи также связано с пророчеством. Когда пришедший по приглашению его отца Анкидина священник Василий рассказал о жизни святого Макария Калязинского, ребенок произнес: «И азъ буду мнихъ таков же». Пораженный священник «видя отроча младо, а глаголъ его совершенъ и глагола ему: „Како смѣлъ еси, чадо, такое слово глаголати?“ И рече ему Илия: „Кто тебя ся не боитъ, тотъ то и глаголетъ“» (с. 462). Смелость отрока обнаруживается в его продекларированном намерении стать святым (ведь, в отличие от основателя Калязинского монастыря, Иринарх, как известно, не создал новой обители). Как показал Александр, герой Жития сумел прославить Борисоглебский монастырь среди множества христиан различной социальной принадлежности и даже «иноплеменных» и «иноверных» врагов.
Рассказ о трех услышанных гласах свыше читается сразу после пострижения юноши и прихода в монастырь друга героя Агафоника, с которым тот еще до пострига часто беседовал в Ростове о Священном Писании. Проводив приятеля, Иринарх «помышляше въ сердцы своемъ, како бы ся ему спасти, и обѣщавающася идти въ Кириловъ или на Соловки» (с. 468). Желание героя отправиться в прославленные северные обители — Кирилло-Белозерский или Соловецкий монастыри, — известные строгостью устава и суровыми условиями монашеской жизни, свидетельствует о его готовности к аскетическим подвигам. Однако Иринарх получает ответ на свои размышления: «И бысть ему гласъ свыше, глаголя: „Не ходи в Кириловъ, ни на Соловки: здѣ спасешися“. Он же о глаголѣ томъ усумнѣвся, и вторицею той же гласъ глаголя: „Здѣ спасешися“. Он же отъ гласа того нача плакати прилѣжно и помышляше въ себѣ: „Что сие будетъ?“ И третицею той же гласъ свыше глагола ему: „Здѣ спасешися“. Он же в себѣ крѣпляшеся о гласѣхъ и, обозрѣвся, никогоже не видѣ, а глас третицею слыша» (с. 468). Сомнение героя в истинности чудесных голосов достаточно этикетно, однако знаменательным является тот факт, что уже в этом эпизоде только начавшего свою монашескую жизнь Иринарха автор именует старцем, а трижды услышанное им пророчество свыше получит сюжетное развитие в последующем повествовании.
Автор Жития, рассказывая об обстоятельствах жизни своего героя, показал, что его служение оказалось связано с тремя обителями. Вынужденным странствиям Иринарха предшествует еще одна триада, открывающая мотив неприятия его подвига тремя настоятелями Борисоглебского монастыря. Важной деталью повествования становится то, что первый из игуменов не назван по имени, а первоначальным толчком к последующему подвигу самоотречения Иринарха оказывается христианское милосердие. Пожалевший босого странника Иринарх после молитвы о ниспослании ему терпения к холоду отдал тому зимой сапоги и стал босым ходить по снегу. Увидев в этом поступке проявление гордыни, «по завидѣнию, сатанину дѣйству, нача игуменъ его смиряти» (с. 470). Для того чтобы монах его обители прочувствовал холод в полной мере, настоятель держал его по два часа на морозе у своей кельи. Обнаружив, что игуменское «учение» не было воспринято подвижником, на три дня посадил его в монастырскую тюрьму, лишив еды и питья. Желание Иринарха в лютый мороз избавить от правежа в Ростове некоего христолюбца привело к тому, что в течение трех лет подвижник страдал от боли, отморозив пальцы ног, но не оставил своего правила. Третье решение игумена более всего удручило исцеленного Богом Иринарха: его отправили на работу за пределы обители, лишив возможности участвовать в церковных службах (с. 470). Именно последнее из этих трех наказаний привело к тому, что инок покинул место пострижения и отправился в Ростов, где архимандрит Богоявленского Авраамиева монастыря «восприят его с радостию въ монастырь» (с. 470). Александр отметил, что Иринарх много сокрушался, когда был назначен келарем, так как насельники брали всякого припаса чрезмерно много. Герой, обратившийся с покаянной молитвой к чудотворцу Авраамию, во сне увидел основателя обители, утешившего его и назвавшего келаря Иринарха «жителем святаго рая» (с. 472).
Этот эпизод явления герою почитаемого в Ростове святого открывает мотив чудесных явлений святых Иринарху3. Александр сообщил, что после смерти матери, которую его учитель предугадал прежде полученного известия об этом событии, и ее похорон Иринарх не вернулся в Богоявленский Авраамиев монастырь, проявляя смирение и не желая «властительства келарьския службы» (с. 472). Он отправился в маленький и скромный Лазарев, где по-прежнему вел аскетическую жизнь, но продолжал, по словам агиографа, печалиться о том, что ему пришлось покинуть Борисоглебскую обитель. Именно там он был удостоен еще одного чудесного видения: в «тонком сне» герой увидел святых князей Бориса и Глеба, которые звали его вернуться: «Идем, старец, за тобою. Иди в наш монастырь» (с. 472). Сон Иринарха прервала молитва старца Ефрема, присланного от строителя Варлаама с приглашением вернуться на место пострига, что на сюжетном уровне подтверждает истинность видения.
Возвращение подвижника отмечено еще одним видением: по дороге уставший герой Жития задремал, увидел во сне большую змею, которая готова была пожрать его, ударил ее в шею посохом, после чего та отползла от Иринарха. Образ змея полисемантичен, однако с ним прежде всего связано зло (один из образов дьявола и исходящих от него клеветы, искушений, лжи, опасности). После этого третьего чудесного видения Иринарх возвращается в Борисоглебский монастырь4.
В Житие включены три эпизода с известным ростовским юродивым Иоанном, получившим прозвище Большой Колпак. Впервые он упомянут Александром как утешитель Иринарха в обители Воскрешения Лазаря: «И Иоаннъ преподобный уродивый всегда его посѣщая и его утѣшая…» (с. 472). Тему пророчеств Иоанна открыло второе посещение затворника юродивым, уже в Борисоглебском монастыре. Это произошло в то время, когда автор Жития стал первым учеником старца и «очевидцем» его жизни. Пришедший Иоанн велел сделать Иринарху 100 медных крестов «по полугривенке», но тот объяснил, что не сможет совершить ничего подобного из-за своей нищеты. Однако услышал в ответ: «Бог поможет ти и да дастъ ти исполнить все прошение и желание твое по глаголу сему» (с. 476). Таким образом, Иоанн дал понять своему собеседнику, что это пророчество, а не совет. Третья встреча Иринарха с Иоанном произошла перед уходом блаженного в Москву. Именно тогда юродивый предсказал судьбу Руси и самого затворника: «…наведет Господь Богъ иноплеменных <…> мечь, де, их тебя не вредит, и онѣ, де, тебя прославят паче вѣрныхъ» (с. 476–478). Александр, словно желая подчеркнуть истинность всех предсказаний юродивого, сообщил, что первое из них оказалось подтверждено видением Иринарха: «И виде во снѣ: прииде к нему другъ и даша ему крестъ. И другий другъ прииде, во снѣ же, и далъ ему палку желѣзную» (с. 478).
И далее в двух маленьких главках рассказано об исполнении сна в реальности, когда друг затворника Иоанн, посадский человек, принес крест, из которого святой слил 100 крестов медных, а другой человек по имени Василий принес железную палку. Третий предмет — железная цепь в три сажени — становится членом еще одной триады — трех орудий принятого аскетического подвига. Пророчества Иоанна были сделаны, когда Иринарх после молитвы перед иконой Распятия Христова услышал «извещение» уйти в затвор. Получив на это благословение строителя Варлаама, он «здѣлалъ на себя ужище желѣзное трех саженъ и приковался к стулу» (с. 476).
Таким образом, Александр назвал три предмета аскетических трудов Иринарха5. Сообщение о третьем мирянине-христолюбце из Углича, который прислал старцу «ужище три сажени», завершает рассказ о трех дарах мирян (кресте, палке и цепи). Оно вторгается в еще одну триаду: «даров» монахов, которые передают затворнику свои труды, так как не в силах (по разным причинам) продолжать их сами. Первым упомянут старец Леонтий, который оставил свои 33 креста медных у Иринарха, собираясь в пустынь Успения Богородицы на Кубри, где по предсказанию затворника был убит. В произведении это предвидение смерти можно считать третьим: Иринарх предвидел смерть своего отца (с. 466) и матери (с. 472). Старец Феодорит, сделавший для себя железную цепь в три сажени и трудившийся в ней 25 недель, после полученного приказа от игумена ходить в службы оставил ее герою Жития. Позже старец Тихон «здѣлалъ себѣ на труды ужище железное и сидѣлъ в трудѣхъ седмь лѣтъ» (с. 480). Он стал третьим иноком, который оставил свою цепь затворнику, когда покидал монастырь в Смутное время из-за боязни быть убитым поляками. Неудавшиеся подвиги трех иноков оказались «переложены» на плечи святого, который к своим трудам добавил труды своих последователей, неся их за себя и за них. Завершая этот рассказ, Александр заметил: «…и стало у него ужища желѣзнаго 20 сажен. В тѣх во многих трудѣхъ старецъ труждался день и ночь непрестанно 30 лѣтъ и 4 мѣсяца, Богу моляся» (с. 480–482).
Как показано Александром, подвижническая жизнь Иринарха не вызывала одобрения игуменов монастыря. В агиографическом произведении рассказано о трех из них. О первом, решившем указать иноку границы человеколюбия и державшем его для этого босым на морозе, создатель Жития знал от учителя, два других были ему знакомы. Второй из описанных в Житии игуменов — Гермоген — поддержал претензии братии обители к затворнику: «Онъ, старецъ Илинархъ, седит на затворѣ, и постится, и на себѣ имѣет многая и тяжкая желѣза, и не пьет хмельнаго, и брашна мало вкушаетъ, и учитъ. И повелѣваетъ братии такоже в трудѣхъ ходити, и поститися, и хмельнаго никакоже не повелѣваетъ во уста приимати. А глаголетъ он — то бо, де, есть всего злѣе — подобает бо мнихом быти яко ангеломъ» (с. 480). В данном эпизоде можно увидеть элемент гротеска: обвинения, предъявленные монахами, предвосхищают претензии более поздней по времени создания Калязинской челобитной6. Претензии к Иринарху откровенно нелепы (ведь всякий постриженик принимает «ангельский образ»), к тому же они противоречат любому существовавшему монастырскому уставу. Но главное в этом эпизоде — реакция игумена Ермогена: «И по научению сатанину и по немилосердию игуменъ Ермогенъ старца ограбилъ, и с монастыря сослалъ (выделено мною. — И. Л.), не помянувъ Бога и благини брата своего: поста, и трудовъ, и темничнаго сидѣния…» (с. 480). Иринарх снова был вынужден уйти в Лазарев монастырь, где пребывал в посте и молитвах год и две недели, пока Гермоген не осознал свою и братии вину и не раскаялся в содеянном.
Третий игумен, присланный патриархом Гермогеном, по имени Симеон оказался еще хуже своих предшественников. Александр отметил, насколько мало его качества соответствуют идеалам монашества: новый начальник обители «лют и немилостив, свирѣпъ и пьянчивъ, и не воздержателенъ на добро <…> злѣе и свирѣпее невѣрных» (с. 492). Рассказ о нем имеет ряд особенностей. Он оказывается точно датирован: «И ненавидя дияволъ добра, и видя себе уничижена от старца Илинарха, и состави на него волну великую во 118 году» (с. 492). Одиозная фигура настоятеля представлена агиографом в трех эпизодах. Сначала Симеон стал требовать от старца, чтобы тот с ужищем железным в 20 саженей (около 43 м), с которым и по келье-то двигался с трудом, ходил на церковные работы. Желая наказать подвижника за «непослушание», игумен явился в келью Иринарха с братией и «ограбилъ его без милости и поима у него весь запас» (с. 492). А далее возникает отсылка к сюжету 294-го Слова Синайского патерика [Синайский патерик, с. 353–355]7, в котором некий старец, ограбленный разбойниками, отдал им не замеченную ими вещь, после чего злодеи умилились и вернули иноку похищенное. Иринарх и его ученики, ограбленные игуменом, остались лишь с запасом соли и меда, которые старец также повелел отдать. Есть основания полагать, что в Житии данную отсылку следует воспринимать как литературный прием: в маленьком затворе не заметить четыре пуда соли и пуд меда крайне затруднительно. Для агиографа было важно соотнести поступок православного игумена с поведением разбойников: подобно им, он отобрал все. Следует отметить, что эпизод о грабеже следует в тексте после рассказа о приходе в монастырь двух польских полководцев, которые ничем не обидели старца, проявив уважение к его подвижничеству и взглядам.
Повествование Александра о бедствиях, которые претерпел затворник от Симеона, перемежаются рассказами о чудесных видениях старцу юноши «светлого обликом в белых ризах» (с. 492). После ограбления явившийся ангел предупреждает Иринарха, что «немилостивый и скаредный лютый игумен» еще не насытился. Второе появление Симеона приводит к более драматичным событиям, так как он, заявившись в келью с пятью монахами, повелел выволочь затворника из кельи. «И, волокши, ему, старцу, лѣвую руку выломили, и покинули старца за 3 сажени до церкви. И старец ту пребысть 9 часовъ и молясь Господу Богу» (с. 492). Третьей бедой становится приказ игумена разослать старцев Александра и Корнилия (второго ученика святого) по кельям, лишив их какой-либо возможности помочь учителю. Мотив поругания святого «уравновешивается» еще одним чудом: вновь явившийся Иринарху ангел принес ему известие о скором утешении от скорби. Александр этим чудом завершает рассказ о трех горестных встречах затворника с Симеоном, становясь главным участником общения со «зверообразным» игуменом. В качестве героя повествования Александр оказывается удостоен чуда: во время молитвы он услышал глас «от крестов», повелевший ему пойти к игумену со словами «Прочто противу судебъ Божиихъ борешися?» (с. 494). Особо подчеркнуто, что к игумену повествователь подошел в сакральном месте — в церкви, где и произнес дерзко измененные им слова: «Отпусти старца Илинарха в кѣлию свою на обѣщание со ученики его, да не злѣ испустишь душу свою (выделено мною. — И. Л.), боряся противу судебъ Божиихъ» (с. 494). Симеон вынужден благословить старцев на затвор. Завершается тяжелое испытание еще одним, третьим чудом, которое является своего рода кульминацией всего эпизода. Иринарх обращается к Богу с просьбой избавить его от злого гонителя и дать ему терпения. И слышит: «Дерзай, страдальче мой! Азъ есмь с тобою всегда, но ждах твоего великаго подвига <…> ждутъ тебе со страхом и трепетом порода Царства Моего» (с. 494). В этом явлении Иринарх удостоился ответа Бога на свою молитву, что позволяет говорить об использовании приема градации при описании помощи затворнику высших сил. А третий игумен — гонитель святого вскоре был изгнан из обители.
Важным для развития сюжета в Житии стало описание встречи святого с государем. Именно Иринарх, согласно тексту Жития, призван сообщить царю Василию Шуйскому о грядущем пленении всего Московского государства. Описание видения в этом эпизоде лаконично. В тонком сне он видит посеченную и сожженную Москву, горько рыдает об увиденном и трижды слышит «глас из света» (с. 482), приказывающий идти к царю, чтобы сообщить ему, что́ ждет его царство: «Сотвори и не ослушайся; по глаголу сему да будетъ тако роду сему лукавому и непокоривому <…> возвѣсти царю Василию Ивановичю, яко быть царству Московскому плѣнену от литвы и всей Росийской земли» (с. 482). Автор не сообщил ни о страхе визионера, ни об объяснении игумену причины, по которой Иринарх был вынужден покинуть затвор.
Но особое место занял в тексте рассказ о встрече в Переяславле, на пути в Москву, с Ануфрием, где впервые в произведении совершенное подвижником чудо изображено как часть обыденной жизни героя. Рассказ о нем — единственно подробный в памятнике. Он также создан по трехчастному принципу: подробный рассказ об обстоятельствах, приведших к мучительной болезни дьякона; встреча с Иринархом; чудесное спасение от страданий и смерти друга героя Жития. Сначала автор подробно описал мучения дьякона Ануфрия, безжалостно терзаемого бесами, обрушившими на него не только жестокую лихорадку, но и ненависть, насмешки, клевету от горожан и даже от его родных. Силы зла мстили ему за то, что он скинул в яму «бесовский камень», которому горожане поклонялись в праздник апостолов Петра и Павла. Ануфрий уже ждал скорой смерти, еле дошел до Никитского монастыря, где состоялась его встреча с Иринархом. Рассказ об исцелении от насланной бесами болезни удивительно прост в изложении. Подвижник увидел еле живого Ануфрия «и возрадовался велми старецъ Илинархъ, и цѣлова его любезно, и далъ ему четверть хлѣба, и благослови его, и рекъ: „Да от сея яди буди здравъ!“ И от того часа бысть здравъ от болѣзни тоя» (с. 484). Сила чудотворения Иринарха такова, что в тексте не содержится ожидаемых сведений о совместных молитвах, о святой воде, о долгом соблюдении поста, церковных службах. Во время совместной трапезы ростовский подвижник излечил своего друга с легкостью, словно не задумываясь о силе демонов.
Отметим, что встреча Иринарха с царем Василием Шуйским описана достаточно лаконично. Главное пророчество ростовского затворника, касающееся судьбы всего государства, не стало кульминационным моментом в повествовании. В двух маленьких главках («О приѣзде къ Москве» и «О благословении царицы») сообщается о близком, лишенном официальной дистанции общении подвижника с царем и царицей. В рассказе агиографа на сюжетном уровне также соблюдается принцип троичности. Местом первой встречи с государем становится Благовещенский собор (домовая церковь русских царей), куда подвижник приходит по приглашению государя: «Старецъ же прииде во церковь, и помолися Богородицѣ, и благослови царя крестомъ, и целова царя Василия Иоанновича. А царь целова его любовию и подивися великим трудом его» (с. 484). Предсказание произнесено Иринархом прямо в соборе, он сообщает, что «виделъ град Москву плѣнену отъ литвы и все Росийское царство» (с. 484). Призыв царю мужественно стоять за веру Христову не может изменить неизбежное. Государь отнесся к подвижнику с теплотой и уважением. Когда Иринарх выходил из храма, царь «взя старца под руку, а ученикъ его — под другую», после чего попросил благословить жену.
Вторым местом действия в эпизоде названа палата царицы, где Иринарх исполнил просьбу царя, но отказался взять присланные ему в дар два полотенца. Переданный Александром диалог краток и не содержит никаких обязательных этикетных обращений: «Царь же Василий заклинал его Богом живым: „Возми Бога ради!“ Старецъ же рече царю: „Азъ приѣхалъ не для даровъ. Азъ приѣхал возвѣстити тебѣ правду“» (с. 484). Третий эпизод свидетельствует о заботе царя об Иринархе: он проводил подвижника и его ученика, приказал боярину накормить своих гостей и дал путешественникам свой возок и конюха для обратной дороги.
Данная сюжетная триада последовательно подводит к осознанию, что видения старца и его пророчества оказались сопряжены с судьбой всей Русской земли, поэтому он становится своеобразным посредником между Царем небесным и царем земным. Таким образом, Иринарх традиционно представлен связующим звеном между миром людей и миром божественным, так как чудесное явлено в мир именно через святого.
После предсказания о пленении Русского царства следует главка, открывающая тему иноземного нашествия. В Житии Иринарх оказывается центром «разломленного» мира, общаясь и со «своими», и с «чужими». Агиограф показал три встречи своего учителя с тремя польскими военачальниками и его общение с тремя русскими воеводами. Оппозиция «свои — чужие» является одной из определяющих в истории и культуре любого социума, эта константа проявляется всегда и во всех сферах жизни, составляя предмет научного исследования историков, социологов, антропологов, филологов, искусствоведов, политологов [Шипилов; Конетти]. Важно, что во времена Смуты противопоставление осознавалось авторами той поры по трем основным составляющим этой оппозиции: национальной, конфессиональной и политической. Для большинства современников событий в XVII в. поляки («литва») — воплощение вселенского зла, в описании которых присутствовали эсхатологические мотивы [Лобакова 2014а, с. 96–97]. Однако под пером Александра враги, как и все люди, обладают индивидуальными чертами. Никаких иллюзий у повествователя на их счет нет: они разоряют города, убивают жителей, безжалостно грабят села, монастыри, деревни, опустошают землю. В главке «О нашествии литвы» об этом сказано четко: «И по мале времяни прииде литва, злые и свирѣпые, и немилостивыя сѣкатели в Русскую землю. И почали без милости плѣнити и посѣкати, и многие грады повоеваша, села и деревни пожгоша, и крестьяном великую бѣду наношаху» (с. 484–486).
Описания взятия в 1609 г. городов Димитрова и Ростова ориентированы на традиции воинского повествования, в них варьируется триада, составляющая формулу взятого города: сожжение города, осквернение святынь (церквей, икон, книг), посечение людей (мужчин, женщин, детей). О взятии Ростова в Житии повествователь сообщил достаточно кратко: «…град Ростов повоеваша, и поплѣниша, и пожгоша. И соборную церковь Успения Богородицы осквернили, мужей и женъ, отроковицъ и дѣвиц испосѣкли, и раки великих чюдотворцовъ Леонтия и Исайя, и все церковное здание, и всю казну испограбили» (с. 486). Однако, как показано Александром, встречи с тремя польскими полководцами свидетельствуют об исполнении предсказания юродивого Иоанна, так как враги («чужие») более «своих» оценили подвиг затворника и прямоту его ответов. Все описания состоявшихся встреч содержат сходные элементы сюжета: рассказы о страхе перед приходом «литвы» и о готовности затворника и двух его учеников (трех иноков в одном затворе) принять смерть от их руки, о разговоре с врагами (паном Микулинским, Яном Сапегой и Иоанном Каменским), об их уважении к подвижнику и о его наказе им уйти из Русской земли. Эти три эпизода сюжетно разработаны, насыщены диалогами, а военачальники наделены индивидуальными черточками. Они целиком приняли позицию Иринарха, который не скрывал своей верности русскому царю и православию. Благодаря подвижнику, как показано автором, Борисоглебский монастырь не был сожжен и разграблен.
Важно, что три эпизода благословения трех русских полководцев (князей М. В. Скопина-Шуйского, Д. М. Пожарского и Б. М. Лыкова) на борьбу со сторонниками Лжедмитриев, которые перемежаются эпизодами встреч с польскими воеводами, также построены по единой троичной сюжетной схеме: посылка креста и просфоры с благословением и требованием идти на врагов; победа сомневавшегося военачальника по молитвам подвижника; благодарность святому. Необходимо оговорить, что повествование в этих эпизодах достаточно кратко и схематично. Русские воеводы являются орудиями Божьего промысла и одновременно воли Иринарха, который выступает как молитвенник за всю Русскую землю.
В результате созданных Александром сюжетных триад выстраивается четко организованная композиция, где фигура Иринарха помещена в центр вертикальной композиционной триады: мир земной — святой — мир небесный.
В Житии затворника нет привычного противопоставления мира монастырю. Автором показана монастырская братия, среди которой есть достойные иноки, почитающие Иринарха и способные оценить его подвижничество, но есть и недостойные, те, для которых пребывание в обители такого человека становилось невольным упреком и рождало глубокую неприязнь к святому. В эпоху Смуты среди рухнувших основ государственной жизни каждый человек оказывался перед личным выбором в определении собственных убеждений, нравственных границ, незыблемости обетов. Монастырская братия не была единой: внутренний выбор каждый делал сам [Лихачев, с. 5–7]. Среди тех, кто не выдержал искушений и соблазнов мира, три монастырских игумена. Развитие сюжета определено историческими потрясениями Смутного времени. Затворник не отгорожен от мира, его раздоров, горя и испытаний. Текст памятника отличает простота изложения: Александр крайне редко использует риторические приемы. При этом принцип троичности соблюдается достаточно последовательно от начала памятника (трех детских чудес) до завершения жизнеописания Иринарха (комплекса девяти прижизненных чудес). Посмертные чудеса, заключающие памятник, — структура открытая (мы не знаем об их первоначальном составе, о тех, кто их записывал и когда). Почти все эпизоды, отобранные повествователем, образуют триады. Части каждой триады могут следовать одна за другой последовательно, а могут перемежаться другими триадами или их составляющими, что позволило автору создать иллюзию свободы повествования. Является ли принцип троичности особенностью сюжета Жития Иринарха Ростовского или в нем отразилась особенность построения агиографического произведения — ответ на этот вопрос требует специальных исследований на более широком материале.
1 Впервые Житие было издано в 1888 г. со значительными «исправлениями слога», что весьма ощутимо изменило стиль памятника. Далее в тексте статьи Житие цитируется по приведенному изданию с указанием страниц в круглых скобках.
2 Под троичностью я имею в виду особенность построения сюжета, при которой его элементы утраиваются. Культурная семантика категории троичности разрабатывалась в основном на материале фольклора (всех его жанров), отразившего архаические представления о мироустройстве: [Топоров; Доброва]. Применительно к Житию Сергия Радонежского вопросы рассматривались в работах: [Колесов; Кириллин; Ранчин; Духанина]; к минейной редакции Жития Иосифа Волоцкого — [Иванов]. За указание на последнюю работу искренне признательна А. В. Пигину.
3 Отметим, что хотя рассказы о рассматриваемых видениях согласно существовавшей литературной традиции вводятся после молитвы и упоминаний о пребывании Иринарха в полусне, но святые не столько призывают его к какому-либо действию, сколько отвечают на размышления подвижника. В тексте также отсутствует указание на испуг, испытанный героем после пробуждения, что характерно для визионеров [Прокофьев].
4 Этот эпизод может быть довольно точно датирован. Варлаам (до принятия иночества Владимир) был священником, ключарем (т. е. вторым после настоятеля лицом) московского Архангельского собора, принял постриг в Борисоглебском монастыре и, согласно сведениям Вкладной и кормовой книги обители, сделал много вкладов (золоченые подсвечники, деньги, иконы Богоматери Римской и Собора Архистратига Михаила с чудесами). В качестве монастырского строителя упомянут в ней в 1587 и 1588 гг. (РНБ. Собр. А. А. Титова. № 4520. Л. 32 об.–33 об.). Таким образом, Иринарх вернулся в свой монастырь не ранее 1587 и не позднее 1588 г.
5 В Ростовском Борисоглебском монастыре хранится как реликвия четвертый предмет, принадлежавший Иринарху Ростовскому, — параман, но он не был упомянут в Житии Александром.
6 Памятник смеховой литературы, составленный от имени иноков Троицкого Калязинского монастыря, имеет указание на адресата — архиепископа Тверского и Кашинского Симеона, занимавшего кафедру с 1676 по 1681 г. [Калязинская челобитная].
7 Русские книжники знали сюжет также по Киево-Печерскому патерику [Киево-Печерский патерик, с. 386–389].
Об авторах
Ирина Анатольевна Лобакова
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российскойакадемии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: irinairli@mail.ru
канд. филол. наук, cтарший научный сотрудник
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Доброва — Доброва С. И. О троичном образном параллелизме в фольклорном тексте // Вестник Воронежского госуниверситета. Cер.: Филология. Журналистика. 2023. № 2. С. 15–19.
- Духанина — Духанина А. В. Изучение языка и поэтики Епифаниевской редакции Жития Сергия Радонежского в свете текстологии // ТОДРЛ. СПб.: Росток, 2017. Т. 65. С. 265–281.
- Житие Иринарха Ростовского — Житие Иринарха Ростовского / Подгот. текста, пер. и коммент. И. А. Лобаковой // БЛДР. СПб.: Наука, 2006. Т. 14: Конец XVI — начало XVII века. С. 464–515, 730–738.
- Иванов — Иванов И. Э. Тринитарные структуры в минейном житии Иосифа Волоцкого // Проблемы исторической поэтики. 2023. № 4. С. 63–81.
- Калязинская челобитная — Калязинская челобитная / Подгот. текста и коммент. Н. В. Понырко // БЛДР. СПб.: Наука, 2010. Т. 16: XVII век. С. 389–392; 623–624.
- Киево-Печерский патерик — Киево-Печерский патерик / Подгот. текста Л. А. Ольшевской, пер. Л. А. Дмитриева, коммент. Л. А. Дмитриева и Л. А. Ольшевской // БЛДР. СПб.: Наука, 1997. Т. 4: XII век. С. 296–489; 641–667.
- Кириллин — Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). СПб.: Алетейя, 2000. 314 с.
- Колесов — Колесов В. В. Епифаний Премудрый и «плетение словес» // Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. С. 188–215.
- Конетти — Конетти Э. Масса и власть. М.: АСТ, 2023. 704 с.
- Лихачев — Лихачев Д. С. Подступы к решительным переменам в строении литературы // БЛДР. СПб.: Наука, 2006. Т. 14: Конец XVI — начало XVII в. С. 5–23.
- Лобакова 2004 — Лобакова И. А. К изучению поэтики русской агиографии: повествователь в севернорусских биографических житиях второй половины XVI — начала XVII в. // ТОДРЛ. СПб.: Наука, 2004. Т. 56. С. 337–350.
- Лобакова 2014а — Лобакова И. А. Исторические события и лица в Житии Иринарха Ростовского: Смутное время в агиографическом произведении // ТОДРЛ. СПб.: Наука, 2014. Т. 62. С. 93–119.
- Лобакова 2014b — Лобакова И. А. К истории текста Жития Иринарха Ростовского // ТОДРЛ. СПб.: Наука: 2014. Т. 63. С. 146–165.
- Лобакова 2019 — Лобакова И. А. Мотив физического страдания в житиях затворников эпохи Смуты // Х Чтения по истории и культуре Древней и Новой России: [Материалы науч. конф. (Ярославль, 19–20 октября 2018 г.)]. Ярославль: Канцлер, 2019. С. 103–110.
- Платонов — Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1888. 372 с.
- Прокофьев — Прокофьев Н. И. Видение как жанр в древнерусской литературе // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. М.: [б. и.], 1964. Т. 231: Вопросы стиля художественной литературы. С. 33–56.
- Ранчин — Ранчин А. М. Тройные повторы в житии преподобного Сергия Радонежского // Ранчин А. М. Вертоград златословный: древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 211–220. (Научная библиотека; Вып. 60).
- Синайский патерик — Синайский патерик / Изд. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М.: Наука, 1967. 401 с.
- Топоров — Топоров В. Н. К семантике троичности (слав. *trizna и др.) // Этимология. 1977. М.: Наука, 1979. С. 3–20.
- Шипилов — Шипилов А. В. «Свои», «чужие» и другие. М.: Прогресс-Традиция, 2008. 568 с.
Дополнительные файлы