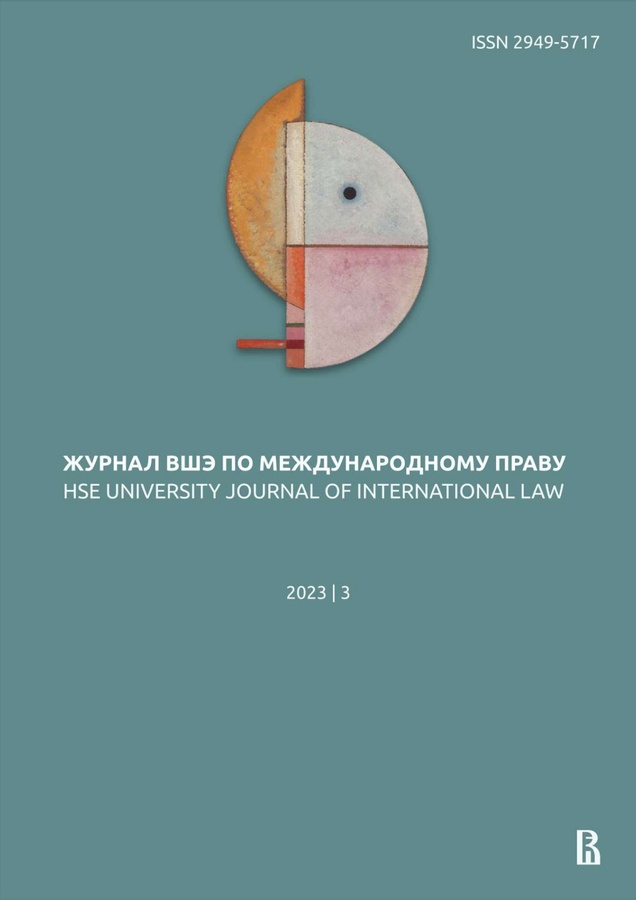Журнал ВШЭ по международному праву
Журнал призван аккумулировать результаты фундаментальных и прикладных исследований об актуальных вопросах международного права и, основываясь на плюралистичной картине научных теорий и методологии современного международного права, а также необходимости междисциплинарного диалога, развивать стереоскопическое представление о нормах, процессах и акторах, формирующих современные международно-правовые отношения.
Журнал издается в онлайн формате с открытым доступом к публикациям. Журнал является двуязычным: статьи выпускаются на английском или русском языках с обязательным развернутым резюме на английском, если статья на русском языке, и наоборот.
Прием статей для публикации в журнале осуществляется строго на основе процедуры двойного слепого рецензирования, организованной в соответствии с международными практиками. Все номера журнала проходят через полный цикл редакторской обработки и корректуры. Плата за подготовку и публикацию рукописей с авторов не взимается.
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-86418 от 30.11.2023
ISSN (online): 2949-5717
Учредитель: НИУ «Высшая школа экономики»
Главный редактор: Русинова Вера Николаевна, д-р юрид. наук, профессор
Периодичность / доступ: 4 выпуска в год /открытый
Входит в: РИНЦ
Текущий выпуск
Том 1, № 3 (2023)
- Год: 2023
- Статей: 7
- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-5717/issue/view/21518
- DOI: https://doi.org/10.17323/jil.2023.v1.i3
Весь выпуск
Теоретические изыскания
Нарушение государственного суверенитета в «киберпространстве»: взгляд через призму Устава ООН
Аннотация
Вопрос о том, может ли нарушение государственного суверенитета посредством и против кибернетической инфраструктуры подпадать под действие п. 4 и 7 ст. 2 Устава Организации Объединенных Наций, является одним из наиболее насущных вопросов современного международного права. В настоящей статье предпринята попытка ответить на него путем развития общей классификации, предусмотренной Таллиннским руководством 2.0 в отношении нарушений суверенитета в «киберпространстве», которое классифицирует эти нарушения как действия, ведущие к «посягательству на территориальную целостность государства-мишени» или к «вмешательству в осуществление функций, присущих государству, или узурпации таких функций». Сближение концепций территориального суверенитета и «киберпространства» позволяет расширить сферу применения ст. 2 и, таким образом, установить соответствие классификации Таллиннского руководства 2.0 п. 4 и 7 ст. 2 Устава ООН. Признание данных в качестве актива, на который может распространяться функциональный суверенитет государства, и который может стать объектом незаконного применения силы в нарушение общего запрета, закрепленного в п. 4 ст. 2, позволяет признать атаку на данные «посягательством на территориальную целостность государства-мишени». Расширение сферы действия п. 7 ст. 2 зависит от определения понятия вмешательства как поведения, направленного на неправомерное присвоение внутренней компетенции одного государства другим. В рамках такой концепции вмешательство в «киберпространство» можно рассматривать как попытку получить контроль над функциональностью определенной кибернетической инфраструктуры, которая используется государством для осуществления им своих суверенных функций. Речь идет о получении контроля над объектом инфраструктуры в такой степени, что это нарушает его нормальное функционирование, то есть вмешательство выходит за рамки простого манипулирования данными. Автор полагает, что в таком случае «вмешательство в осуществление функций, присущих государству, или узурпация таких функций» может представлять собой нарушение принципа невмешательства, закрепленного в п. 7 ст. 2 Устава ООН.
 4–20
4–20


Рассмотрение инвестиционных споров в арбитраже с участием государств с конкурирующими правительствами (на примере Венесуэлы)
Аннотация
В настоящей статье рассматривается вопрос о наличии у составов арбитража, рассматривающих инвестиционные споры, компетенции определять представителей, имеющих право действовать от имени государств-ответчиков с конкурирующими правительствами. Изучение имеющейся международной практики и доктрины позволяет предположить, что составы арбитража обладают «сопутствующей» компетенцией для решения вопроса об уполномоченном представителе. В этом случае вопрос об уполномоченном представителе решается с единственной целью перейти к рассмотрению требований, которые надлежащим образом входят в компетенцию составов арбитража, и решение по этому вопросу не включается в резолютивную часть арбитражных решений и не обладает свойством исключительности. Наиболее приемлемым подходом к решению вопроса о представительстве является проведение материально-правового анализа права правителя выступать от имени государства. Альтернативные «обходные» методы для решения вопроса о представительстве сомнительны с точки зрения их логической последовательности, практичности и обеспечения процессуальных прав сторон. Данный анализ должен проводиться в соответствии с критериями обычного международного права. Вопрос легитимности правительства является лишь одним из этих критериев и играет ограниченную роль в общем тесте для определения правительства, которое имеет право действовать от имени государства. Наконец, также необходимо учитывать соображения процессуальной справедливости, которая зависит от фактических обстоятельств каждого конкретного дела.
 21–35
21–35


Актуальные проблемы
Решения внутригосударственных судов по искам о понуждении к сокращению выбросов парниковых газов: пространство дискреции государств
Аннотация
 36–56
36–56


Толкование понятий «инвестиции» и «инвесторы» в российско-бельгийско-люксембургском двустороннем инвестиционном договоре: поиск путей разрешения дела НСД
Аннотация
Статья исследует юрисдикцию инвестиционного трибунала по двустороннему инвестиционному договору между Россией и Бельгией/Люксембургом на рассмотрение дела об оспаривании санкционных ограничений в случае его инициирования НРД. Согласно российско-бельгийско-люксембургскому ДИД, государства обязуются не допускать экспроприации инвестиций, а если она все же происходит, то выплачивать своевременную и справедливую компенсацию. Такая «экспроприация» может произойти и в результате санкций. Являясь российским депозитарием по ряду иностранных ценных бумаг, НРД имеет счета в централизованных европейских депозитариях Euroclear/Clearstream. С момента включения НРД в список подсанкционных организаций ЕС согласно Регламенту ЕС no. 269/2014 в июне 2022 года операции с ценными бумагами были приостановлены, а счет НРД в Euroclear/Clearstream был заблокирован. В связи с тем, что счета НРД в иностранных депозитариях были заблокированы, перевод иностранных ценных бумаг со счета депо, открытого в НРД, в другой российский или иностранный депозитарий стал невозможен. Одним из способов оспаривания таких последствий является подача иска в инвестиционный трибунал против Бельгии/Люксембурга. Дело имеет два возможных решения: массовый иск от конечных инвесторов или единый иск НРД как «номинального держателя» ценных бумаг конечных инвесторов. Первый вариант может оказаться чрезмерно время- и организационно-затратным, поэтому иск от НРД может показаться более привлекательным. Таким образом, применяя инструменты толкования международного публичного права, автор ставит задачу оценить перспективы инициирования НРД инвестиционного арбитражного разбирательства. Автор сосредоточился на толковании двух центральных терминов российско-бельгийско-люксембургского ДИД: «инвестор» и «инвестиции». В работе делается вывод о том, что инвестиционный арбитраж prima facie будет обладать юрисдикцией по делу rationae personae, несмотря на статус «номинального держателя» НРД, а также юрисдикцией ratione materiae, поскольку заблокированные ценные бумаги и доходность от них представляют собой «инвестиции» по смыслу ДИД. В связи с этим в статье определяется процессуальная правоспособность номинальных держателей инициировать арбитраж. Поскольку ранее этот вопрос не поднимался ни в доктрине, ни в практике, в статье проводится аналогия с прецедентным правом в отношении «технических» компаний.
 57–72
57–72


Моральный вред в международном инвестиционном праве
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие морального вреда в международном инвестиционном арбитраже. Хотя в настоящее время действует более 2500 двусторонних инвестиционных договоров, ни один из них не регулирует моральный вред. Автор исследует исторический контекст, в котором формировался институт морального вреда, и приходит к выводу, что на протяжении последнего столетия международное право не уделяло должного внимания проблеме оценки такого ущерба. В результате, несмотря на едва ли не универсальное признание этого института международными судами и трибуналами, для трибуналов до сих пор не существует руководящих указаний о том, как подходить к возмещению морального вреда, что делает проблему его оценки актуальной для международного права. В статье освещаются причины, по которым суды либо полностью игнорируют требования о возмещении морального вреда, либо присуждают лишь символические суммы, связывая незначительные объемы возмещения с нематериальным характером морального вреда, отсутствием каких-либо конкретных доказательств или чрезвычайно высоким порогом доказывания. Автор приходит к выводу, что международному праву до сих пор не хватает четкого критерия для определения возмещения морального вреда. В отсутствие методологии оценки морального вреда трибуналы часто ссылаются на национальное право отечественных правовых систем вместо единого стандарта. В некоторых случаях трибуналы не приводят никаких обоснований или правовых оснований для такой оценки. Автор приходит к выводу, что при отсутствии единообразного стандарта инвестиционные трибуналы могут обратиться к инструментам, применяемым в области защиты прав человека, чтобы сделать оценку морального вреда более четкой и последовательной.
 73–84
73–84


Сравнительно-правовые исследования
Энергетический союз Европейского союза как механизм правового регулирования развития внутреннего электроэнергетического рынка
Аннотация
 85–97
85–97


Комментарий
Комментарий к решению Международного Суда от 30 марта 2023 года по делу «Некоторые иранские активы (Исламская республика Иран против Соединенных штатов Америки)»
Аннотация
 98–111
98–111